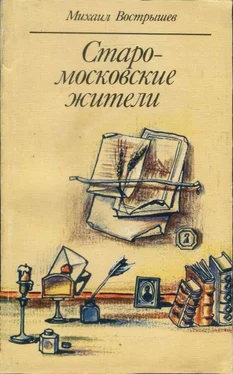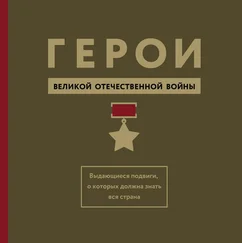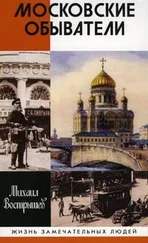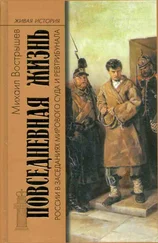— Хамово отродье!
Смотритель не удержался, занес кулак, но его руку перехватил второй полковник.
— Разве вы не видите, он не в себе.
— Нет, ваше высокоблагородие, я-то в себе. — Чернявый даже сделал реверанс второму полковнику. — Не в себе кто-то иной. А кто — попробуйте-ка рассудите. Вы уж, господа тайные благотворители, внимательно поглядите и рассудите. — Чернявый раскланялся господам, отступил на шаг от штыка и обернулся к братьям по неволе: — А ну, живо сюда Илюху.
Два мужика подвели к нему тщедушного мальчонку лет тринадцати-четырнадцати. Штаны и рубашонка висели на нем, как на пугале. Испуганное лицо он попытался спрятать, ткнувшись им в грудь Чернявого, от людей высшей расы, перед которыми благоговел и которых боялся. Чернявый опять сделал шаг к штыку, обняв мальчонку за плечи.
Генерал чувствовал себя одураченным в этой комедии: холоп, да еще каторжный, посмел осудить их. Что же предпринять? Он уже хотел было приказать отвести этого сумасшедшего убийцу в карцер, но отвлек мальчик. Зачем здесь, среди падших, развратных людишек, оказался ребенок?
— Один из самых зловещих преступников, — как бы поняв недоумение генерала, горько усмехнулся Чернявый. Голос его стал ласковее, хоть глаза по-прежнему оставались красны и безумно блуждали. — Ни папеньки, ни маменьки — подзаборником родился. Ходил по миру, копеечки выпрашивал. Знаете, как это делается? «Ба-а-рин, ба-а-тюшка, копе-е-чку! Су-у-дарыня, ма-а-тушка, гро-о-шик!» — и ладошку протягивает.
Чернявый взял мальца за локоть, и тот невольно протянул вперед ладошку.
— А потом видит, что батюшки и матушки больно скупы, вот и надумал: отлил в глине из олова три монетки да в первой же хлебной лавке со своими блинами и попался. Благородные начальники обрадовались, что словили злостного фальшивомонетчика и присудили ему пятнадцать лет каторги и сотню плетей.
Чернявый дико захохотал, потом резко замолк и прижал к себе голову мальчика.
— Это правда? — генерал обернулся к смотрителю.
Кутасов развел руками: мол, не в моей власти, и прочитал из вовремя поданной ему солдатом книги:
— «Уголовная палата на основании 608-й статьи 1-й части XV тома присудила Илью Непомнящего к лишению всех прав состояния, ссылке в каторжные работы на пятнадцать лет и к телесному наказанию ста ударами через палача плетью».
— Нет, это неправда. Вот она, правда! — Чернявый резко нагнул мальца, задрав ему рубаху до самых плеч.
Дамы вскрикнули разом, как от острой неожиданной боли, увидев рваную детскую спину. Отец Исидор перекрестился.
— Не крестись, все одно чертям достанемся, — усмехнулся Чернявый. — Ты вот, святой отец, сегодня в церкви рая нам в будущей жизни желал. А нельзя ли заместо него в нынешней грешной жизни Илюшку на волю выпустить? Чтоб он, как воробушки, на солнышке погрелся, на свободушке почирикал? У всех нас, сиволапых, сколь здесь ни есть, рай забирай взамен — мы согласны. Как, ваше преподобие?
— В страдании, сын мой, сгорает зло, — ответил отец Исидор первое, что пришло на ум.
Чернявый, явно паясничая, поклонился протоиерею до самого пола.
— Спасибо, святой отец, надоумили вы нас, прокаженных. Теперь с радостью поплывем вдоль каторги. Правда, я думал, вы Иоанна Богослова вспомните: «Дети мои! Станем любить не словом или языком, но делом и истиною».
— Не давай злу побеждать тебя, сын мой, — с досадой, что опять никто не остановит непочтительного каторжника, ответил отец Исидор и с достоинством отошел к дамам.
— Его надо простить, он не ведает, что творит, — потихоньку сказал протоиерей Лукину и почувствовал разливающуюся под рясой благость своего прощения.
Дамы стояли онемело от увиденного страдания. Они забыли про вонь, грязь, грубость и были готовы сейчас на многое, лишь бы прекратились страдания мальчика. Аграфена Федоровна даже окликнула генерала:
— Граф, как же это?… Как же возможно?
Но генерал не слышал ни беседы протоиерея с арестантом, ни слов графини. Он как завороженный не отрывал взгляда от хрупкого детского позвоночника, который во множестве пересекли красные рубцы с полкопейки шириной. Мозг инспектора сжигала адская пляска мыслей, воспоминание о первых годах царствования Николая Павловича. Вот такая же худенькая спина вмиг стала рваной и багровой.
Генерал — тогда еще поручик — с ротой окружили эшафот. Вдалеке показалась телега, народ расступался перед ней, со страхом крестясь. Молодая женщина, совсем еще девчонка, закованная в ручные и ножные кандалы, с распущенными золотистыми волосами, взошла на помост. Палач с яростью сорвал балахон, прикрывавший ее белое тело, и стал накрепко привязывать нагую преступницу к доске, да так крепко, что, казалось, ее кожа вот-вот хрустнет. Потом палач вынул из ящика плеть, похожую на маленького дракончика с тремя головками-узлами; прошелся по помосту, посвистывая ею в воздухе. Но вот остановился, хватил приготовленный стакан водки и с криком «берегись» с разбегу обрушил удар на спину возле позвоночника. Потом были еще удары, но генерал их не замечал, его, кажется, мутило, и он отвернулся. Только помнил, что после каждых десяти палач приостанавливался, величаво прохаживался по эшафотному помосту, посвистывая в воздухе дракончиком. Тело преступницы, сроднившись с деревянной доской, сине-багровое, с темными пятнами, судорожно вздрагивало, и из него медленно сочилась сукровица. После тридцати ударов лекарь остановил наказание, и к вечеру молодая преступница, как рассказывали в роте, скончалась в больнице.
Читать дальше