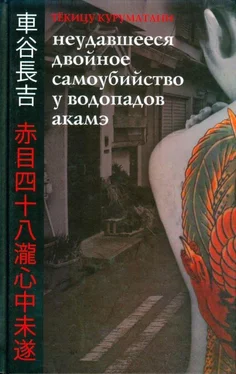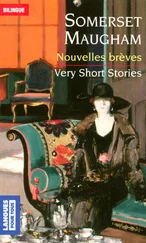— Мужчина, а мужчина! Не хотите ли поразвлечься?
Обернувшись, я увидел дворовую принцессу — одну из женщин, которые простаивали вечерами возле перекрёстков и зазывали прохожих. Присмотревшись в полумраке, я понял, что передо мной женщина из соседней комнаты. Очевидно, она тоже узнала меня.
— А, чтоб тебя черти взяли… — проговорила она и пригвоздила меня глазами. Я внимательно смотрел на неё, словно ожидая чего-то, как вдруг она процедила: «Чего выпялился?» и шагнула ко мне. Мгновенно почувствовав опасность, я увернулся от неё и быстрым шагом направился к дому. В ту ночь она домой не вернулась. Но соседняя комната, бывало, пустовала ночами и раньше. На следующий день довольно рано вечером я услышал скрип раскрывшейся двери, затем голоса бесстыдно резвившейся пары. Закончив дело, оба ушли. Уже в полночь они появились снова. Однако, прислушавшись к доносившимся из-за стены голосам, я понял, что пара была другая.
Это продолжалось дня три-четыре. Однажды вечером, поняв по звукам, что они уходят, я нарочно вышел в коридор и к своему удивлению увидел совершенно незнакомую мне пару. Они стояли в коридоре. Женщина мельком взглянула на меня. Мужчина тоже посмотрел, но сразу отвёл глаза. Из этого я заключил, что соседнюю комнату снимали дворовые принцессы, чтобы было куда привести мужчин.
Я стал прислушиваться повнимательнее и понял, что действительно в соседнюю комнату мужчин приводила не одна, а по очереди две или три женщины. Все они прожили не меньше полувека, и у всех были растрёпанные поредевшие волосы. Но мужчины, которых они приводили, были ничем не лучше — это был видавший виды люд, очевидно из бездомных подёнщиков. Одна пара каждый раз, обнявшись и смеясь, валилась на футон, однако после этого воцарялась мёртвая тишина, а через некоторое время оба грустно запевали приглушёнными голосами то ли сутру, то ли заклинание: «оцутаигана, уротанриримо, оникутагиная, коцунатигухи…» [15] Имена известных японских писателей и этнолога, прочитанные наоборот.
Женщины были ещё те, но и мужчины, которых они приводили, были жалкими созданиями. И в их голосах было что-то столь чудовищное, что взволновало бы до глубины души любого.
Хозяйка «Игая», которую в закусочной звали «тётушка Сэйко», наверняка знала все углы да закоулки этой разыгрывавшейся во мраке трагедии и сделала своё душераздирающее признание, понимая, что рано или поздно её ненавистное прошлое дойдёт и до моих ушей. Демон её прошлого — те красные хай-хилы — слились в моём сердце с заклинанием тщетно ищущей покоя старой шалавы из соседней комнаты, и от этого неожиданное признание с каждым днём всё глубже впивалось смертельным ядом в мой мозг.
Тётушка Сэйко стала то и дело наведываться ко мне, каждый раз говоря, что зашла по дороге с рынка. Она приносила мне сладости или фрукты, усаживалась в моей неотапливаемой комнате и смотрела, как я работаю. Почти всегда она съедала один из принесённых в качестве гостинца мандаринов, выкуривала сигарету и уходила, но я при этом упорно хранил молчание, а она лишь поглядывала на ряд пустых бутылок, которые я купил в торговом автомате, и приговаривала что-нибудь вроде «пьёшь ты много…», но серьёзных разговоров не заводила. Разумеется, она прекрасно знала, чем объяснялось количество бутылок — на ту сумму, которую она мне платила, позволить себе пойти в кабак, как все, я никак не мог. Но угостить меня кружкой у себя в закусочной она тоже не предлагала, да я бы и сам не пошёл.
И при этом, уж не знаю почему, она приходила ко мне и угощала меня сладостями и фруктами. Я бы предпочёл, если бы она принесла тёплого чаю в термосе или что-то ещё согреться, но унижаться и просить её об этом я не собирался. Что в моей комнате не было даже минимальных удобств, ей было прекрасно известно.
Она уходила, непременно оставляя на полу мандариновую корку с торчащим в ней окурком. Иногда на окурке виднелось красное пятно от губной помады, и, бывало, я оставлял этот мусор до её следующего прихода. Разумеется, она всё замечала, но так и сидела, невозмутимо пуская клубы дыма. Наверняка она считала меня толстокожим упрямцем, но я тоже считал её толстокожей упрямицей, молча нарезал требуху на куски и насаживал нарезанные куски на шампуры.
И всё же на фоне моих будней в четырёх стенах этой унылой комнаты даже эти посещения тётушки приносили мне некоторое — хоть и небольшое — облегчение. Меня так и разбирало спросить её, отчего мужчина стонет в комнате напротив, и почему она не сказала мне в тот раз, что девушка из «Яблочка» живёт в комнате подо мной. Но, задав ей эти вопросы, я переступил бы черту. Я понимал, что у неё были свои причины не заговаривать об этом, точно так же как и у парня, приносившего мне требуху, были свои причины молчать. И всё же моё сердце стало невольным совладельцем её «ненавистного прошлого». Её тайна терзала моё сердце, грызла его по ночам всякий раз, когда в соседней комнате запевала своё ужасное заклинание старая шалава.
Читать дальше