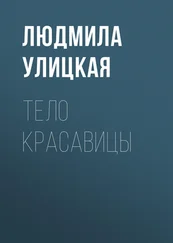Вот тогда и пришел к Всеволоду Миша, соученик, он тогда уже училище окончил по классу фортепиано, и стали они вместе играть, потом к ним еще другие музыканты добавились, Надя-скрипачка и Даша-виолончелистка. Квартет организовали, стали выступать. И Волечка оказался у них самый главный. Он свою музыку сочинял. Его флейта все плакала и улыбалась, и без нее так хорошо не получалось. Но плотницкое дело не бросал, потому что заработков от музыки никаких не было. Только расходы напрасные. Хотели в студии свою музыку записать, но в записи музыка плохо звучала. Флейта почти не слышна была, другие инструменты ее певучий тембр забивали, и все волшебство пропадало. Однако люди на их концерты приходили. Не так уж много людей, но кто приходил, уже не уходил. И приводили других, таких же, которые находили особую радость в старинном звучании флейтовых трелей. Музыка была как будто детская и прозрачная.
Маша все была прежней, только постарела, стала Марией Акимовной, и работала она теперь не в школе, не в училище, а в церкви на Тверской улице уборщицей. Ей предлагали и за свечным ящиком работать, но с деньгами ей не хотелось разбираться, она и считала не очень хорошо, боялась ошибиться, или хуже того – ведь и обмануть ее могли очень просто. А с тряпкой и ведром она хорошо ладила.
Знала она, всегда знала, что мальчик ее был необыкновенный, зла в нем не было ни на копеечку, все его любили. Он как будто зла не видел, да и оно на него до времени не смотрело. А вот девушки на него очень смотрели, он многим нравился. Они около него покрутятся-покрутятся – свободный человек, а не так уж много свободных мужчин в нашем городе, женщин всегда в избытке. Он никого из них не обижал, не обещал ничего, но никакого мужского внимания не оказывал, и они одна за другой от него отдалялись… Все, видно, хотели, чтобы Всеволод на них женился. Но об этом Мария Акимовна с сыном никогда не говорила… Жалко, конечно. Даша была хорошая, и Надя тоже…
Так сидела Мария Акимовна на скамеечке возле справочного окна, без единой слезы, а рядом с ней Миша сидел и плакал. А она перебирала свою прошедшую жизнь и понимала ясней ясного, что Воля ушел, как и пришел, чудесным образом. Не знала она, от кого понесла, откуда он взялся, и не знала, куда он теперь ушел.
Страшно было только одно – зачем его убили?
Да и кто? Кому он помешал?
Видно, что Миша о том же думал, потому что обнял ее – она маленького роста, а Миша длинный, на голову выше – и говорит:
– Это музыка Волина, это все музыка. Не могли они ее вытерпеть, она их просто сжигала. Она огненная была, его музыка. Небесная…
– Да, да… – кивала Мария Акимовна. Она соглашалась, что музыка та была небесная. Силилась ее вспомнить, но не могла. С ним вместе ушла та музыка…

Боль была такая огромная, изумляющая – бо́льшая, чем можно было бы вообразить. Она вся помещалась во лбу, и он висел на ней, как полотенце на гвозде. У нее было острие, у этой боли. Она имела коническую форму и была сосредоточена именно в этом острие. Во всем мире не оставалось ничего, кроме боли. Но вдруг появилась крохотная сияющая точка, она как будто двигалась, слегка вращалась и тянула его к себе. Стенки черного конуса стали еще чернее, и стало заметно, что они движутся, как будто эта яркая точка заставляла их вращаться, втягивая в себя. И сам он почувствовал тягу этого движения. Точка расширялась, оттуда бил острый луч света, и он устремился туда. Боль была с ним, но тоже вращалась и переставала быть такой мучительной. И нота «ля» возникла в этой расширяющейся точке, и он весь подстроился под нее и двинулся в сторону света. Коридор тьмы вращался, сдавливал его, но и слегка расступался, становился как будто просторнее, и движение к светлой точке становилось все более ощутимым. Туда тянуло помимо его воли, но и воля его тоже направлена была в ту сторону.
Как будто трудное возвращение домой – мелькнуло в сознании. Давление черных стенок ослабевало. Он уже почти выбрался на все расширяющийся свет. Но снова вернулась боль, уже не конусом, впивающимся в лоб, теперь она резала спину – острая, как будто двойная. И тут его мощной силой вытолкнуло из черной трубы, боль в спине вспыхнула и погасла. Сделав последнее усилие, он расправил прорезавшиеся в спине большие влажные крылья.
Ноги совершали легкие движения, как при ленивом плаванье, руки свободно раскинулись во всю длину, подъемная сила крыла несла его ввысь, и он почувствовал, что размеры всего изменились, рухнула координатная сетка, к которой он так привык, а звук «ля» расширился невообразимо, как будто впитав в себя все оттенки слышимого и все те, которых не было в звуковом обиходе человеческого уха… Он был выше боли, она осталась под ногами.
Читать дальше
![Людмила Улицкая О теле души [Новые рассказы] [litres] обложка книги](/books/403970/lyudmila-ulickaya-o-tele-dushi-novye-rasskazy-litr-cover.webp)




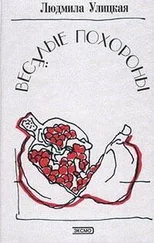
![Людмила Улицкая - Сквозная линия [litres]](/books/393468/lyudmila-ulickaya-skvoznaya-liniya-litres-thumb.webp)