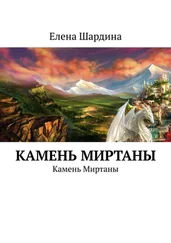Толпа разразилась торжественным гимном, и в этот момент Микеланджело удалось вырваться с запруженной площади. Со всех ног он бежал вокруг Собора к его заднему двору, туда, где стоял его сарайчик. Он завернул за угол, и отдаленный легкий вздох, послышавшийся ему в толпе и заставивший сломя голову нестись в мастерскую, вдруг набрал силу, превратившись в бриз, порхающий над бескрайним морским простором. Трясущимися руками он отпер замок.
Он распахнул дверь, и бриз задул с мощью штормового ветра. Микеланджело закрыл и запер дверь. Шторм тем временем разгулялся, воздух в мастерской сгущался и дрожал, как перед грозой.
Микеланджело повернулся к колонне. Положил руку на мрамор и прислушался. То, что он принял за шум ветра, не ветер вовсе. Звук исходил из толщи камня. Вдох-выдох, вдох-выдох… Микеланджело, закрыв глаза, сосредоточенно вслушивался в это дыхание. Вскоре до него донеслось тихое, еле различимое биение. Это пробудилось сердце камня. Медленно, словно нехотя, пульсация набирала силу. Камень уже не просто дышал – он шептал. Правда, слов было еще не разобрать, лишь отрывочные звуки и буквы. Микеланджело нежно гладил мрамор, и от его ласки буквы начали сливаться в слова. «Свет» – вот первое, что удалось расслышать Микеланджело. Затем – «Страх».
– О чем ты? Пожалуйста, повтори, – нежно попросил Микеланджело. – Я не расслышал тебя.
Раздался робкий, еле различимый шепот:
– Господь – свет мой и спасение мое: кого мне бояться? [6] Библия – Ветхий Завет, Псалтирь, Псалом 26.
Микеланджело судорожно вздохнул. Он узнал: это псалом Давида, так он молился задолго до битвы с Голиафом – еще когда мирно пас в полях свое стадо.
Наконец-то мрамор заговорил с ним.
Снова послышался шепот. Слова звучали уже чуть отчетливее:
– Господь – крепость жизни моей: кого мне страшиться?
– Давид, – выдохнул Микеланджело.
– Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, – голос Давида звучал все сильнее, – то они сами преткнутся и падут.
Слезы наполнили закрытые глаза Микеланджело.
– Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое… – взывал Давид.
– Да, – произнес Микеланджело, и смех вырвался из его горла.
Затем его слух уловил восхитительный звук – самый приятный из всех, что существовали на свете, – Давид начал петь:
– …Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться.
Камень не был мертв, он дышал жизнью, и теперь Микеланджело наконец-то услышал его голос. Мрамор сам расскажет ему, какую историю он скрывает в своей толще.
Великие мастера традиционно изображали Давида юным пастушком, невинным и хрупким, в тот момент, когда он торжествовал победу над могущественным Голиафом. Но Микеланджело теперь знал: Давид хотел поведать ему совсем о другом. Его Давид еще не поверг противника, схватка только предстоит ему. И он на поле битвы собирается с силами перед смертельным поединком с великаном. Для этой сцены, полной драматизма и неизвестности, не нужны ни могучий меч, ни кроткие овечки, ни тем более отрубленная голова Голиафа. Давид стоит в одиночестве, его взгляд устремлен вперед, правая рука, держащая камень, еще опущена и висит вдоль бедра. А что с левой рукой? На том месте, от которого Микеланджело в приступе бешенства отхватил огромный кусок, из верхней трети колонны все еще выступал небольшой бугор. Если согнутую в локте руку на уровне плеча подвести под подбородок, она, пожалуй, целиком впишется в этот бугор. В этой руке Давид будет держать пращу, в сосредоточенной задумчивости теребя ее на плече. Голову героя надо повернуть влево, прямой нос развернуть к наружному углу колонны – так Давид грозно смотрит на Голиафа, который в ожидании схватки высится на горизонте. В этот момент Давид еще не знает, победит он великана или будет повержен сам, но уже понимает, что судьба назначила ему вступить в бой. И как всякий, кому предстоит смертельная битва, Давид не ощущает твердой уверенности в своих силах, но и не поддается сомнениям – в его груди бушует гремучая смесь этих чувств. Настроению соответствует и поза Давида: одна часть тела расслаблена, а другая напряжена в тревожном ожидании.
Для Микеланджело уже неважно, станут сравнивать его Давида с работой Донателло или нет, – он твердо решил, что его герой будет обнаженным. Места на шлем, доспехи или мантию не хватало, впрочем, и нужды в них не было. И это, возможно, к лучшему. В душе Микеланджело всегда жила непоколебимая уверенность в том, что лучший способ восславить Бога – это восславить самое совершенное Его творение: человека.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





![Владимир Абрамов - Доппель стори [СИ]](/books/401774/vladimir-abramov-doppel-stori-si-thumb.webp)