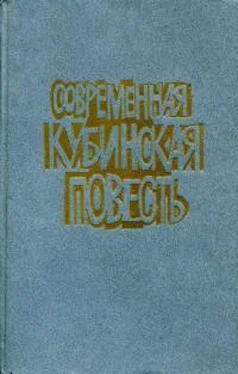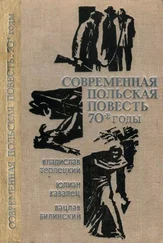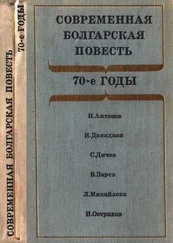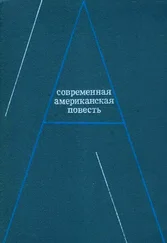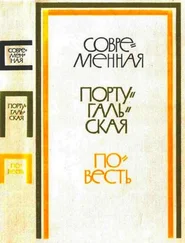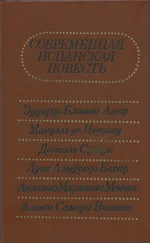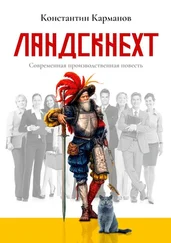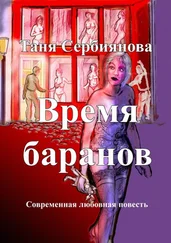Несмотря на то что в «Брюмере» изображена острейшая драматическая ситуация, порог, за которым угадывается возможность подлинной и всеобщей трагедии, — сама атмосфера повести светлее и чище. Давид знает, что он не один. За ним миллионы людей, в чей разум он верит. Давид понимает, что, если человеческая мудрость победит безумие «брюмера», настанет эра созидания, творчества, мира. В этой уверенности — гуманистический смысл повести.
Трагедия Габриэля Дуарте, «человека меж двух станов», — трагедия индивидуалиста, нашедшего было дорогу к людям и остановившегося на полпути, оказавшегося в плену у своей ошибки. Не случайно вся поэтика повести подчинена образу плена. Вчитаемся повнимательней: Наварро мастерски подчеркивает мотивы заточения, скованности, четырех стен. Душный «Кантри клаб», квартира Марсиаля, кабинет Орбача, «подпольное» житье на вилле у Хайме, львы, изнывающие от бессильной ярости в клетках зоопарка неподалеку, тюремная камера. Изображение замкнутого пространства, где все нестерпимее атмосфера пустопорожних споров, трусливой демагогии и угроз, равномерно чередуется со сценами в море. Но здесь, на просторе, ощущение несвободы, вынужденного соседства лишь усиливается. Настоящая, большая жизнь страны, соотечественников, с их новыми заботами, трудом и радостным ожиданием, идет где-то по ту сторону существования Габриэля и Луисы, добровольно избравших плен.
Единственной нитью, связывающей плен и большой мир, остаются пока дети Луисы и Габриэля. «…Если я борюсь, то делаю это как раз для сына», — говорил Габриэль во времена подпольной борьбы. Он готов был скомпрометировать себя, чтобы вызволить сына Луисы. И чтобы спасти соседскую девочку, покидает укрытие, попадая в камеру батистовской охранки.
Вероятно, впоследствии эта нить окрепнет. Связь с грядущим страны, забота о том поколении, которое не изуродовано отчуждением и ненавистью, поможет Габриэлю еще раз выйти из добровольного плена. Финал повести Ноэля Наварро — открытый. Сходен с ним и финал «Брюмера», написанный как будто из будущего: «…через несколько недель, когда сержант Тибурон зачитает… приказ о демобилизации…» Замыкается определенный цикл, жизнь вступает в новую фазу, опыт выстрадан.
Если в повестях Мигеля Коссио и Ноэля Наварро сразу же можно выделить немало общих черт, то «Галисиец» Мигеля Барнета на первый взгляд стоит от них особняком, напоминая мемуары, интервью, романизированную биографию. В Латинской Америке этот все более популярный жанр называют «свидетельством». История литературы, в том числе и советской, знает немало примеров создания художественного произведения по такому принципу — на документальной основе. Обычно материалом для повествования служит биография выдающегося человека, героя или отрезок героической эпохи, документ, фиксирующий исторические потрясения. Мигель Барнет в своем творчестве избирает другой путь, модифицируя сложившиеся установки жанра.
Жизнь безвестного человека, вроде бы ничем не примечательного, просто современника, немало потрудившегося на своем веку, немало выстрадавшего, — сколько интересного может она таить подчас!.. Эта идея и вдохновила писателя на создание упомянутого выше цикла повестей-«свидетельств», открывшегося «Биографией беглого раба», уже знакомой советскому читателю. Впрочем, герой этой повести Барнета — человек не совсем заурядный. Со страниц книги к читателям с рассказом о своей судьбе обращается стошестилетний (!) старик-негр, бывший раб, современник Хосе Марти, доживший до победы Кубинской революции. Во второй части задуманной серии, повести «Песня Рашели» (1969), в центре внимания писателя — история жизни актрисы гаванского театра, время действия — первая четверть нашего века.
Почему же Мигель Барнет теперь останавливает свой выбор на фигуре галисийского иммигранта Мануэля Руиса? Ведь, если внимательно проследить за воплощением авторского замысла, целью писателя было создать своеобразный «коллективный портрет» кубинского народа в рассказах. Негр-раб, гаванская актриса — кубинцы, а Мануэль Руис все-таки иностранец… Но сам писатель, говоря о своем герое, заявляет: «Его жизнь — органичная частица жизни нашей страны». Влившись в пестрое, но единое целое — население Кубы, галисиец Руис, как и тысячи иммигрантов других рас и национальностей, «внес свой вклад в формирование национальной самобытности кубинского народа». Мигель Барнет считает особенно важным проследить в судьбе Мануэля, одного из многих (это мог быть «Антонио, Фабиан или Хосе»), типичность его истории. Ту типичность, которая делает безвестного галисийца в конце концов характерной частичкой кубинского народа.
Читать дальше