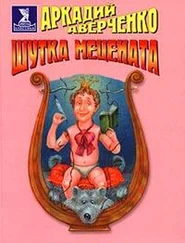Нехотя прогулялся по пустой квартире, мысленно сравнивая зарисовки, сделанные ночью, по памяти, с теперешним видом тех же помещений. От большой гостиной давно уже осталась половина; во второй половине был устроен кабинет, стоял ультрасовременный письменный стол, а стены закрывали высокие, до потолка, книжные стеллажи. В прихожей тоже были кое-какие переделки. Когда я приехал, то не обратил на это внимания, а сейчас заметил, что там появилась перегородка с новенькой, недавно установленной дверью. Я открыл ее, вошел и оказался в тесной каморке, также заполненной книгами, но со старомодным письменным столом, и пропитанной неожиданными для такого места запахами чеснока, лука и стирального порошка. Я распахнул окно, выходившее на площадку, которая, как я обнаружил, тоже подверглась переделке. Теперь это была веранда, где моя дочь держала всякую дребедень, нужную ей на кухне, – запах чеснока, лука и стирального порошка исходил именно отсюда. Я не сомневался, что просторный кабинет занимала Бетта, а в этом крошечном закутке работал Саверио.
Я вернулся в коридор, сунул нос в спальню. Там был кавардак, на незастеленной кровати лежали похожие на увядшие очистки фруктов платья моей дочери; очевидно, она примеряла и забраковывала их, прежде чем выбрать то единственное, в котором, по ее мнению, выглядела лучше всего. В те годы, когда эта комната была спальней моих родителей, она казалась мне огромной, но сейчас, когда Бетта поставила здесь два больших платяных шкафа, прежде обитавшие на чердаке, и двуспальную кровать такого размера, что каждому из лежавших в ней должно было казаться, будто он спит один, – сейчас комната словно съежилась и стала заметно меньше.
Я огляделся вокруг, полистал книги, лежавшие на тумбочках, вышел на лоджию. И тут же ощутил хорошо мне знакомый шум города. Ветер стих, небо было черным и неподвижным, дождь перестал. Я узнал длинный ряд старых домов, тянувшийся от площади Гарибальди, несколько минут следил за потоком прохожих на тротуаре внизу, за вереницей машин, направлявшихся в сторону улицы Марина. А когда заметил, что, неосторожно опираясь локтями на мокрые перила, намочил рукава джемпера, вернулся в дом.
Этого беглого осмотра было достаточно, чтобы сделать вывод: если не считать гостиной, где висела моя картина с красно-синими овалами, большая часть крупных и малых работ, которые я годами дарил дочери, в квартире не выставлены – наверно, дочь и зять куда-то их запрятали. Саверио всегда притворялся, говоря, будто он высокого мнения о моем творчестве, а Бетта даже и не пыталась поверить в меня как в художника. Впрочем, вера – штука непостоянная, она приходит и уходит. В последнее время никто уже не ценил меня, как прежде, слишком многое изменилось. Ладно, сказал я себе, в конце концов, это не так уж важно, главное, что я продолжаю работать. Прогнав невеселые мысли, я решил выйти пройтись, пока есть возможность, ведь с завтрашнего дня я буду сидеть с малышом, и о прогулках придется забыть. И я вернулся в комнату Марио, где еще было темно. Надел пальто, шляпу, проверил, взял ли бумажник, а главное, ключи Бетты, которые она вручила мне, заставив поклясться, что я не забуду их дома. Тут мне захотелось взглянуть на балкон, который я пропустил, когда осматривал квартиру; и я отодвинул задвижку балконной двери.
Моя мать панически боялась балкона, всякий раз, когда надо было выглянуть оттуда, делала это с большой осторожностью и запрещала моим младшим братьям выходить на балкон без взрослых. Стеклянная дверь, которую я открыл сейчас, явно была установлена совсем недавно. Все балконы на этой стороне дома, в том числе и наш, были странной трапециевидной формы – к дальнему концу они сужались. Наш был на последнем, седьмом этаже, и, возможно, именно поэтому мама, которая вообще не страдала головокружением, плохо переносила это сужающееся к краю пространство, она говорила, что, когда смотрит на него снизу, ей становится плохо. Когда надо было что-то выставить на балкон или достать оттуда, она звала моего папу, а если папы не было дома или он был не в духе, звала старшего сына, то есть меня. Я брал у нее из рук то, что надо было вынести, но, чтобы подразнить ее, перемахивал на дальний край балкона и начинал там прыгать, так, что дрожали основание балкона и перила, и смотрел, как мама, стоящая в дверном проеме, смеется и ужасается одновременно.
Мне нравилась эта видимость риска. Когда я был совсем маленький, то нередко, особенно весной, выходил на балкон, садился на пол и читал, писал или рисовал. Помню, каким громадным казалось небо, окружавшее меня; а еще я видел оттуда строящееся здание вокзала. Там, над пустотой, я чувствовал себя кем-то вроде стража на башне или часового на верхушке столетнего дерева, который должен высмотреть что-то вдалеке. Но сегодня утром, выглянув на балкон, я не ощутил прежнего удовольствия, более того, мне показалось, что я понял опасения моей матери. Он выглядел как узкая длинная доска, нависшая над серой массой асфальта; у того, кто отважился бы выйти на него, возникло бы впечатление, что он ступил на уцелевший фрагмент обвалившейся конструкции, который вот-вот отделится от здания и, в свою очередь, рухнет вниз. Возможно, подумал я, это ощущение торчащего обломка вызвано трапециевидной формой балкона; идеальная прямая, вычерченная порогом балконной двери, кажется безмерно далекой от другой, параллельной ей прямой, рассекающей пустоту; или, что более вероятно, причина такой странной реакции – это мое теперешнее болезненное состояние, старость, сделавшая меня мнительным, неуверенным в себе. Понятное дело, я предусмотрительно остановился на пороге, в пальто, со шляпой в руке, и смотрел на небо, на перила, с которых падали редкие капли дождя, и на пластиковое ведерко, откуда торчала какая-то игрушка и к ручке которого была привязана веревочка.
Читать дальше
![Доменико Старноне Шутка [litres] обложка книги](/books/403061/domeniko-starnone-shutka-litres-cover.webp)