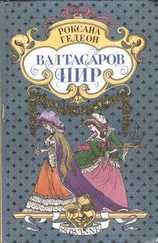Я почему-то удержался и не сказал ей, что еду в Ладзаретто. Вернее всего потому, что в моем положении соблазнительно было этак вот провалиться сквозь землю, скрыться от всех, исчезнуть. Так или иначе, я промолчал.
На вокзале я нашел Пиоланти за тем же самым столиком, где мы сидели раньше. Мы улыбнулись друг другу. Впервые за все утро, потому что во время недавней беседы нам было невесело! Теперь настроение резко изменилось, и мы стали даже шутить. Пиоланти твердил, что я не должен опасаться, будто соседи, которым он передал пакет, украдут его, ибо «на виале Ватикано живут исключительно люди, достойные доверия». А я, смеясь, его успокаивал: пусть не боится, что я перееду к нему на долгие времена. И приводил доказательство — малое количество вещей в небольшой сумке.
Первые два дня в Ладзаретто меня не покидало чувство усталости. Ложился я рано и после обеда спал часа два. Зато вставал я тоже рано, потому что с утра воздух тут свежий и прохладный. Кроме того, я считал, что священнику Пиоланти было бы неприятно, если бы я не заглядывал в церковь, когда он отправляет мессу. От причетника я узнал, что служат мессу отнюдь не все священники, пользующиеся гостеприимством монастыря. Рядом со мной, например, жил священник, которому это запрещено. Он вставал раньше нашего и до полудня не показывался на территории бывшего лепрозория — уходил в горы или, вернее, на холмы, тянувшиеся за монастырем. Другой священник, который за трапезой сидел особняком, на все остальное время запирался в комнате.
После мессы и завтрака я провожал Пиоланти до городка. Здесь мы расставались. Он шел к вокзалу, а я сворачивал влево и, проделав огромный крюк, обходил больницу и лепрозорий, а затем поднимался на вершину Монте Агуццо, где и оставался до обеда. Я брал с собой газеты и полотенце, крепко его скатывал и подкладывал под голову. Спустя какое-то время солнце сгоняло меня с облюбованного места, и приходилось искать новой от него защиты. Воздух — изумительный. Чистый, освежающий. Особенно в ранние часы. Позднее — немножко дурманящий. Эвкалипты, пинии, кипарисы да еще множество трав, среди которых я различал только знакомый мне чабрец, нагревались и испускали целый букет бьющих в нос ароматов. От такой ингаляции в голове мутилось, мысли теряли четкость. Уже не хотелось читать. Лежать бы и лежать, лениво, равнодушно, хоть от моря, которое отсюда было видно, вдалеке правда, дул освежающий ветерок.
Море простиралось справа. Я узнавал его не по яркой синеве, сгущавшейся в том направлении, а по серебристым бликам, игравшим вдоль всей линии горизонта. Под прямым к ней углом — Рим; он ближе от нас, чем море, сказал священник Пиоланти, примерно километрах в двадцати. С этого расстояния Рим похож на гигантскую серо-розово-лиловую цветочную грядку. Иногда яркие блики появлялись и в этой стороне, то в одном месте, то в другом; вероятно, это сверкали купола соборов. Но лишь изредка. В мыслях я почти не возвращался к дням, проведенным в Риме. Об отце я тоже не думал. Я понимал, что обязан ему написать, но все откладывал. Не потому, что не стоило спешить с дурными вестями. Просто я еще не чувствовал себя в силах написать такое письмо как следует, без горечи, дельно.
На второй день я заснул на вершине холма. А проснулся с тяжелой головой и в дурном настроении. И все из-за того, что сон, как непрошеный утешитель, извлек на поверхность то, о чем я почти не думал уже около двух суток. Сперва мне приснился вращающийся пюпитр, о котором я читал у кардинала Эрле. Только это был пюпитр-гигант — еще больших размеров, чем тот, который смастерил бы столяр, всерьез принявший данные, приведенные в книге Эрле. Каждая из сторон верхней части в отдельности — так называемые rodetae — была величиной с крыло ветряной мельницы. На одном крыле вращался я, на другом — отец. Мы вращались так без конца в тишине и в пустоте, не привлекая к себе ничьего внимания. Потом, по странной логике сна, мы пробирались через подземелье, заполненное статуями с живыми, бегающими глазами. Я шел все вперед и вперед и вдруг заметил, что мы вернулись к тем самым статуям, возле которых уже один раз были. Тогда я понял, что на самом деле мы не двигаемся, а только вертимся на одном месте. С этим чувством я и проснулся — удрученный, с тяжестью на сердце, долго еще докучавшей мне. Но в конце концов она прошла бесследно.
К часу я спускаюсь обедать. Это самые неприятные минуты в моем расписании дня. Пиоланти возвращается только около трех, и за обедом я сижу один. Я стараюсь прийти за минуту до молитвы и стою в неподвижности за своим стулом, опустив глаза. После Benedicite я, как и все, беру тарелку и стакан и становлюсь в самый конец очереди. Все тут относятся друг к другу весьма предупредительно. Так, например, священник, сидящий напротив меня, заметил, что мне мешает солнце, и опустил шторку на окне. Я поблагодарил его на здешний манер: наклонил голову, едва заметно улыбаясь. Такая улыбка здесь очень принята. Мы улыбаемся при встрече за пределами территории монастыря или у входа в церковь, когда каждый из нас уступает дорогу другому. Однако никто со мной не заговаривает. За столом слова роняют скупо и никогда беседа не бывает общей. Разговор ведут только с соседом или с соседями. Всегда с одними и теми же. Вот так, как я с Пиоланти. В общем, настроение тяжелое. Как в доме, где за стеной кто-то опасно болен или с кого-то снимают допрос. К счастью, мы не засиживаемся за столом. И кроме того, тягостное настроение, по крайней мере у меня, бывает только тогда, когда я сижу за столом один, то есть во время обеда. За завтраком и за ужином рядом со мной находится Пиоланти.
Читать дальше
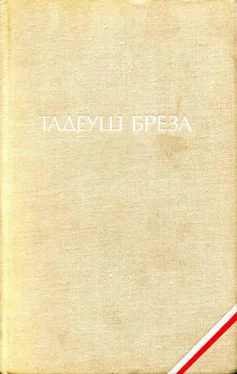


![Филип Фармер - Пир потаенный [ Пир потаенный. Повелитель деревьев]](/books/86330/filip-farmer-pir-potaennyj-pir-potaennyj-poveli-thumb.webp)