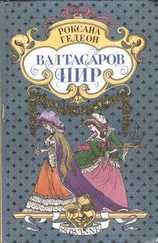— Великой тоске по идеальному образу, — говорил он, — нужна ось, вокруг которой она могла бы кристаллизоваться. Она лихорадочно пульсирует кровью и огнем в сердцах верующих, в сердцах миллионов, миллионов людей, любящих религию. Это не выдумка курии и не чей-либо — если пользоваться вашим ужасным выражением — злой умысел. Это мистический зов неисчислимой массы человеческих душ, зов, на который может откликнуться одно лишь небо.
Он замолчал и после паузы спросил:
— Теперь вы все поняли? Если нет, спрашивайте, пожалуйста.
— А если небо еще не откликнулось? — начал я размышлять вслух. — Откуда можно знать, что это действительно отклик неба?
— Да, это пока еще неизвестно. Вы знаете, что процедура в вопросах канонизации или причисления к лику святых тянется годами. Таким образом, теперь можно говорить только о некоем первом порыве. О первом предчувствии.
— Предчувствие может оказаться ошибочным!
— Может. Но если оно не окажется ошибочным, то, как вы думаете, ваш отец ему подчинится?
— Епископ ненавидел моего отца, — напомнил я де Восу. — Как же отцу уверовать в святость епископа, от которого он видел только ненависть?
— А вы не думаете, что покойный ненавидел не вашего отца, а то зло, которое в нем заключено? И разве вам не кажется, что в таком случае отец ваш должен поступить так, как поступила бы церковь, то есть отнестись с уважением к этой ненависти и склонить перед ней главу?
— Не знаю, как поступит мой отец, — ответил я. — Во всяком случае, если он и проглотит горькую пилюлю, отнесется к ненависти епископа с уважением, как вы говорите, это не окажет никакого влияния на дело, ради которого я приехал.
— Никакого, — подтвердил священник де Вос. — Если образ покойного и дальше будет расти, то все более плотная тень начнет окутывать вашего отца. На годы.
— До конца жизни, — сказал я.
— Да. Я знаю это. Искренне о том скорблю. Я люблю вашего отца, как и всех моих учеников. Я искренне стремился оказать ему помощь. Меня лишили такой возможности. Надо нам, однако, с этим примириться, и мне надо, и вашему отцу.
— Вам-то легко. Для вас это только неприятный инцидент.
— Нет, это тернии! Не первые. Не последние.
Взгляды наши встретились. Ненадолго. На несколько секунд. Единственный раз в ходе всего разговора. Во время предыдущих бесед он если и глядел мне в глаза, то лишь мимолетно и словно по рассеянности. Сегодня же это был иной взгляд — тоже быстрый, но явно умышленный. Я прочел в его глазах, что у него на самом деле тяжело на душе.
— И, значит, больше ничего, ничего не удастся сделать, — прошептал я.
— Я так полагаю.
— Нет таких дверей, в которые я мог бы постучаться? К монсиньору Риго мне, пожалуй, не стоит снова обращаться…
— Безусловно.
— Но, может быть, существует еще кто-то, кто…
Он прервал меня:
— Кто, где, через кого?
И развел руками.
— С нашей помощью, то есть через синьора Кампилли и через меня, ничего уже здесь не сделаешь. А кроме нас, у вас нет никого…
— Но я спрашиваю: стоит ли? Вообще стоит ли еще пытаться?
— Скитаться здесь еще месяц, два, пять, год, чтобы вернуться к исходной точке? Вы должны сами ответить себе на вопрос: стоит ли? Курия — это лабиринт. Механизм с сотней, с тысячей неизвестных. Я ведь не один размышлял о вашем деле. Я советовался. Приглашая вас сегодня к себе, я знал, что перед нами возникнет дилемма, важнейшая для вас в данный момент: пробовать ли еще или уже возвращаться? И я продумал мой ответ. На вашем месте я вернулся бы. Но это не совет; таково лишь мое мнение. Если вы, однако, его разделите и покинете Рим, вы покинете его на собственную ответственность. По собственному решению, никем не принуждаемый.
— Спасибо. Понимаю. Ну, я пойду.
Но все-таки еще несколько минут я не двигался с места. Я молчал. Священник молчал. Ждал, пока я успокоюсь. Наконец я встал и крепко пожал худую, сухонькую руку священника. Мне очень искренне хотелось его поблагодарить за проявленную ко мне добрую волю. Но я не знал как. Поэтому я только низко поклонился.
— Я знаю, что ничего не могу, — прошептал священник. — И не обманываю вас насчет каких-то моих возможностей. Если, однако, у вас будет тяжело на душе, прошу помнить, что есть в Риме старый, преданный вам священник. Я говорю это на тот случай, если вы останетесь.
— Не думаю, — ответил я.
После обеда я рассказал Малинскому о моей беседе со священником де Восом. Я начал с того, что дальнейшее мое пребывание в Риме считаю теперь бесцельным. И под конец вернулся к первоначальному тезису. Но я еще не принял окончательного решения. При мысли об отъезде из Рима мне становилось тошно. И в особенности при мысли о том, что, например, завтра или послезавтра нужно зайти в какое-нибудь бюро путешествий и прокомпостировать обратный билет до Кракова на определенный день. Однако надо это сделать. И к тому же сразу, как можно быстрее. Если действительно ничего нельзя добиться, надо отсюда удирать. Сидеть сложа руки в комнате или бродить по городу, утратившему для меня свой вкус и цвет, было бы невыносимо, мучительно. Все это я сказал Малинскому. Он терпеливо выслушал. Не прерывал. Не утешал. Не старался поддержать мой дух, уверяя, будто еще не все потеряно. Я был ему искренне за это признателен. Под конец разговора я добавил еще фразу о том, что сохраню о нем благодарную память.
Читать дальше
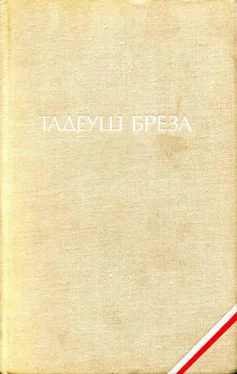


![Филип Фармер - Пир потаенный [ Пир потаенный. Повелитель деревьев]](/books/86330/filip-farmer-pir-potaennyj-pir-potaennyj-poveli-thumb.webp)