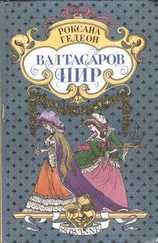— Помимо этого, я ни во что не вмешиваюсь. Тружусь. Зарабатываю. В течение тридцати лет я был офицером, к старости стал коммивояжером. Как говорится: ничего не поделаешь. К счастью, я несколько лет занимался дипломатией. До войны был советником в Риме. Пришла война, меня прогнали. Потом, когда перестали травить людей моего типа, я после смерти Сикорского вернулся на заграничную работу. На этот раз консульскую. Побывал в разных местах, пока наконец снова не попал в Рим. Благодаря этой службе познакомился с коммерцией. После сорок пятого года пустил в ход свои наличные деньги и знакомства и занялся торговым посредничеством, о котором вам уже говорил. Не сую нос, куда не следует. Не гоняюсь за ватиканскими сплетнями. Склоками не пробавляюсь. Не подглядываю и не подслушиваю. И все же я знаю среду.
— Курию? — спросил я.
— Курию, — подтвердил он.
А потом:
— Вы согласны поговорить со мной откровенно?
— Разумеется!
— Правда ли, что ваш отец был врагом епископа Гожелинского?
— Нет.
— Вы можете это категорически опровергнуть?
— В последнее время они не питали друг к другу симпатии.
— Значит, все-таки?..
— Мне кажется, что враждебность и отсутствие симпатии — вещи совершенно различные. Уверены ли вы, что здесь именно так оценивают отношение моего отца к епископу? Не скажете ли, кто вам это сообщил?
— Я уверен, что говорили о враждебности. О враждебности или ненависти, да, да! А что касается того, кто говорил, то, увы, я должен сохранить тайну. Скажу только, что я слышал об этом в одном монастыре. Даже уточню — в польском. Я как-то сказал, что у нас в «Ванде» остановился симпатичный молодой человек, приезжий из Польши. Там это было известно, речь зашла о вашем отце, и мои собеседники выразили сожаление именно по тому поводу, о котором я говорил.
У меня бешено заколотилось сердце.
— Это и есть, разумеется, источник всех интриг, — прошипел я сквозь зубы. — Монастырь и его сплетни. А между тем, если кто кого ненавидел, если кто кого преследовал, так это епископ моего отца, а вовсе не наоборот! Можете от моего имени сообщить об этом своим монахам!
— Монахиням! — мягко поправил меня Малинский. — Старым добрым женщинам. Тихим и не имеющим никакого голоса в курии. Если они и насплетничали на вашего отца, так только богу в молитвах, прося его смилостивиться. Источник другой!
Теперь я с напряженным вниманием слушал, что он говорит. К сожалению, он отвлекся. Сперва потому, что кельнер подавал вино, салат, рыбу, и каждое новое блюдо Малинский встречал шутливым афоризмом. Затем куда-то запропастился бульдог. Нашелся. Потом нужно было отведать рыбу, пока она горячая. Наконец я не утерпел:
— Но где же первоисточник? Кто? Почему?
— А если предположить, что причина в епископе Гожелинском?
— Ведь он умер! — воскликнул я.
— Но память о нем жива. Разве нельзя предположить, что в курии решили создать культ его памяти и сам по себе этот факт стал помехой на вашем пути?
— Создать культ! — испугался я. — О чем вы говорите?
— Разве не понятно? — возразил он. — Вы, как сын консисториального адвоката, должны в таких вещах разбираться куда лучше, чем я — офицер, консул и коммерсант.
Он заплатил по счету и взял своего бульдога под мышку. Мы сели в машину и поехали в сторону Рима. Его слова душевно парализовали меня. Они меня испугали, хотя им не хватало точности и отчетливой связи. Вопреки его предположениям, я вовсе не был специалистом по церковным делам, однако я был достаточно в них сведущ, чтобы отвергнуть его гипотезу. Это правда, что епископа все уважали. Человек он был упрямый и злопамятный, но, несомненно, порядочный. Допустим, что даже больше того, намного больше, но ничего сверх заурядных достоинств и заурядных добродетелей. Разумеется, если применять к его личности не обычную меру, а такую, какая применима по отношению к священнослужителям и прелатам на руководящих постах. Он был выше своего окружения. Согласен. Против этого нельзя было возражать. Поэтому-то многие люди и считали епископа человеком выдающимся. Я тоже, всякий раз как о нем заходила речь, особенно в Риме, называл его выдающимся. Так мне советовал отец. Впрочем, я и сам не возражал. В моем положении было бы некрасиво принижать достоинства епископа. Но это все! Все!
— Епископ умер в прошлую среду, — в конце концов я заставил себя ответить Малинскому. — Шесть дней тому назад. Я слышал, что в Ватикане решения принимают исподволь, после зрелого размышления. Почему же вдруг такая спешка?
Читать дальше
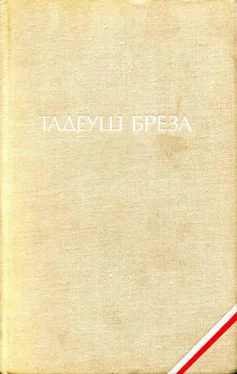


![Филип Фармер - Пир потаенный [ Пир потаенный. Повелитель деревьев]](/books/86330/filip-farmer-pir-potaennyj-pir-potaennyj-poveli-thumb.webp)