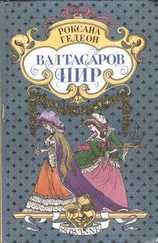Хаза уставился на Уриашевича своими невыразительными, близко посаженными глазками. Лишь время от времени с губ его срывались короткие проклятья, означающие удивление.
— Вот холера! Вот холера! — повторял он.
— Сумма эта не с потолка взята! — сам приходя в волнение от ее величины и слегка краснея, пояснил Анджей. — Уж Фаник небось не пожалел сил, чтобы узнать ей истинную цену, можешь мне поверить. Да я и сам проверил по каталогам все, что он мне сообщил. И у антикваров справлялся.
— А сколько за нее заплатил старик Леварт? — не то что не веря, а из любопытства спросил Хаза.
— Сорок тысяч рублей! Но он переплатил. Во что бы то ни стало хотел, чтобы картина в стране осталась. И самолюбию льстило: единственный обладатель Веронезе в Польше. Не князь какой-нибудь, не магнат, а он — фабрикант, торговец. Страшно тщеславный был на этот счет.
Уриашевич покосился на соседние столики. Никто не обращал на них внимания. Тем не менее он колебался.
— А ты уверен, что здесь можно разговаривать свободно?
— Абсолютно! И чего это вы все из-за границы такие пуганые приезжаете? Говори смело. — Хаза, однако, отодвинулся, освобождая на диване местечко рядом с собой. — Коли ты нервный такой, садись поближе, — сказал он, приготовясь слушать.
— При жизни пана Станислава, — начал свой рассказ Анджей, — картина висела в гостиной. Гостиная Левартов была тогда местом самым безопасным: гарантию ей давала фабрика, которая нужна была немцам. С паном Станиславом они считались, как, впрочем, и он с ними. Но едва он умер, а до того арестовали еще дядю Конрада, у которого повсюду были связи, положение изменилось. Отца моего к тому времени уже не было в живых, из всей дирекции остался один старик Кензель. И вот он посоветовал вдове Станислава, пани Розе, картину спрятать. Но она не приняла его совета всерьез. Уж очень любила себя красивыми вещами окружать. К тому же картина принадлежала не ей — наследником был сын, Фаник, так что ее это, собственно, прямо и не касалось. Тогда Кензель решил посоветоваться со мной.
Уриашевич достал из кармана авторучку и на бумажной салфетке стал набрасывать план.
— Смотри: вот Белянская, вот Длугая, здесь сгоревший дом Левартов, здесь уцелевшая дворницкая, — показал он свой чертеж. — Ориентируешься?
Хаза кивнул. У Анджея вырвался судорожный вздох.
— Тут вот флигель стоял, где мы жили, а тут, где крестик, видишь?..
— Вижу.
— На этом месте второй флигель был, лаборатория. У Леварта никогда к ней не лежала душа. До войны работало там всего двое-трое, так, для проформы. А в оккупацию и вовсе один. И большие подвальные помещения всегда пустовали. Валялось там битое стекло да разный хлам. И вот по планам мы с Кензелем убедились: в одном из подвалов легко устроить отличный тайник. Смотри! — На второй салфетке Анджей набросал, как все это получилось. — Ловко?
Хаза не возражал.
— Устройство тайника Кензель взял на себя, — продолжал Уриашевич. — И все сделал за одну ночь. А мне поручил другое. Антося Любича помнишь?
— Еще бы!
— В войну он работал в Национальном музее. И вот я попросил его как специалиста помочь нам по всем правилам упаковать картину перед тем, как замуровать. Оказалось, для этого нужен картонный цилиндр и еще специальный футляр. Цилиндр — это ерунда, а вот футляр из оцинкованного железа достать было нелегко. Когда все было готово, с пани Розой не понадобилось даже разговаривать; за несколько месяцев до восстания она уехала из Варшавы и больше не вернулась. — При воспоминании о том, как прятали знаменитое полотно, сердце у Анджея забилось сильнее. — Я скрывался тогда и дома бывал редко, а в ту ночь пришел. Хотел Кензелю помочь, ну и ради Левартов сделал это. Любича привел с собой. Кензель…
— Долговязый такой?
— Да, да! Душой и телом предан был Левартам! Если бы не он, фабрика наверняка бы к немцам перешла после смерти пана Станислава. Особенно когда у нас в доме оружие нашли, отца моего расстреляли — он ведь был одним из директоров, а второго, дядю Конрада, арестовали! Но Кензель сумел как-то выкрутиться, вышел из положения. И в ту ночь — тоже не представляю себе, как бы мы управились без него! Было совсем поздно, прислуга Левартов уже спала, когда мы с Любичем стали наворачивать картину на этот картонный цилиндр, пустой в середке, только фанерными кружками укрепленный изнутри. Потом обшили ее холстиной, засунули в футляр, приладили крышку и запаяли на совесть. Часа два на это ушло. А ведь надо было еще перетащить эту штуковину — в сорок кило весом, метр восемьдесят длиной! Темень полнейшая, идешь — спотыкаешься, а в тишине малейший шорох слышен. И потом замуровать ее. Без Кензеля — старик в проходной устроил тем временем скандал, чтобы отвлечь внимание, — нам нипочем бы не обделать это дело втайне так, что о нем знают только трое.
Читать дальше
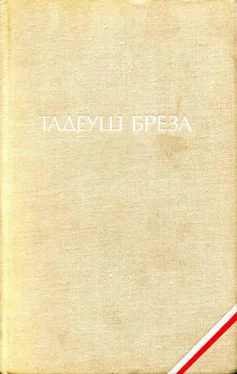


![Филип Фармер - Пир потаенный [ Пир потаенный. Повелитель деревьев]](/books/86330/filip-farmer-pir-potaennyj-pir-potaennyj-poveli-thumb.webp)