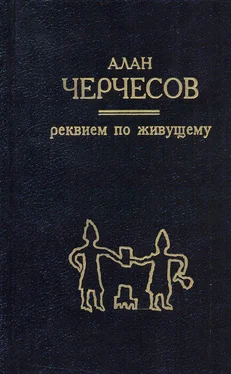И, говорят, изо дня в день все так же сидел на нихасе, чистя ножиком ногти и безмолвно озираясь по сторонам, покидая нихас лишь затем, чтобы подсыпать хворосту в очаг. Но тогда еще нашлись бы люди в нашем ауле, готовые поспорить, что он в нем проснется — мальчишка то есть. И нашлись бы сомневающиеся, но вряд ли кто осмелился бы сомневаться вслух. И потому приходилось просто ждать — в расчете на то, что как ни крути, а у седин терпения больше. Истина эта подтвердилась и вправду скоро, только совсем не с того боку, откуда должна была. И, говорят, с тех пор мало кто был настолько глуп, чтобы думать, что он когда-нибудь проиграет или уступит, пусть даже и захочет того. И когда в то утро он, шатаясь и хромая, плелся к нихасу, все уже не только слышали или знали, но, пожалуй, и видели все, как оно было, когда он уступал да проигрывал, не особо при том защищаясь и уж совсем не помышляя о сдаче, как был избит, повержен, растоптан — а все одно победил. Видели, как посреди дороги окружали его их собственные внуки, правнуки, дети, а он все шел вперед, не замедляя, не убыстряя шага, словно не замечая, и как уперся в живую стену, но и тогда не сделал и движения, чтоб оттолкнуть, ударить или хотя бы прикрыться. И как ни разу не вскрикнул, принимая на себя тумаки вместе с их яростью, изо всех сил стараясь не упасть. И как в конце концов упал, рухнул наземь, сбитый десятками кулаков и волной чужого дыхания. И как дыхание становилось громче и жарче по мере того, как сбивались в спешке удары, метившие в упорное его молчание, и как оно, дыхание, срывалось на крик остервенелых детских глоток, и как стервенели они сначала от изумления, затем от злости, а потом уже только от страха, как ни один из них, из взрослых, застыв кто где в оцепенении и поту, не смог произнести ни слова, а тем паче приблизиться, заступиться, ибо сперва было как-то рано, потому что каждый ждал, а потом вдруг разом сделалось поздно, едва ясно стало, что он их опять обманул — всех: внуков и старике б, детей и отцов,— не издав ни звука и не сделав и движения, чтоб защититься. И когда побоище струсило, кончилось и разбежалось, когда он остался лежать посреди почерневшей пыли в красных сумерках, им понадобилось еще с горстку времени, прежде чем они с собой совладали и скинули с плеч оцепенение. Но чуть они к нему приблизились — к испачканному маленькому телу посреди черной земли,— как тут же замерли на месте. Ибо он уже стоял, а потом (они еще и понять не успели, что сами больше не идут, больше не движутся, а только наблюдают) снова шел к дому, равномерно и тяжело, широко и непреклонно, словно буйвол на пашне. Крохотный такой буйволенок... И было это как чудо, и длилось не дольше мгновения: лежит, стоит, идет. Будто им все пригрезилось, будто он не то что не лежал никогда навзничь посреди дороги, но даже и не останавливался...
И теперь, глядя следующим утром, как он взбирается вверх по улице, каждый из тех, на нихасе, думал лишь о надежде на то, что смолчит. Только молчал он недолго — ровно столько, чтоб отдышаться и смахнуть испарину со лба,— и они услышали: «Это в последний раз. Больше не будет». А потом они снова долго ничего не слышали, покуда он не сказал: «Передайте им: в любой толпе сыщется первый. Тот, кто делает первый шаг, или тот, на кого оно может почудиться. Пусть они знают — и первый, и кто другой, на кого оно может почудиться,— больше не будет. А после скажите, что видели мой нож и что мой нож поклялся, что было в последний раз». И опять они слушали молчание. И, говорят, в тот день да еще в два следующих ни один из них не пустил ребенка на улицу.
А он, залечив раны и подсушив болячки, по-прежнему ходил к нихасу и ничего большего не делал, греясь на остывающем с каждым днем солнце и ковыряя лезвием под чистыми ногтями. И по-прежнему по утрам на пороге натыкался на миску с едой и пивной кувшин, а к вечеру выставлял их обратно, не чувствуя ни злобы, ни благодарности, ни презренья.
Но к зиме кое-что изменилось. Видно, ему наскучило. И тогда он снова пришел к моему деду и спросил: «Сколько зарядов стоит заяц? Ну, в общем, сколько стоит один заяц в пересчете на те штуки, которыми его убивают?» И дед помолчал и сказал: «По-разному. Смотря сколько раз в него пальнешь». И тот кивнул. «Потому и спрашиваю,— сказал.— Неплохо бы сосчитать, сколько зарядов стоит спуститься к лесу, войти в лес, отыскать зайца, попасть в зайца и принести сюда тому, кто не спускался, не отыскивал и не попадал, кто не потратил на то, чтобы взять в руки подбитого зайца, не то что сил, но даже и времени? Может, ты знаешь?» Дед подумал и сказал: «Может, и догадываюсь». И тот спросил: «И что твоя догадка? Наверно, дорогая?» И дед сказал: «Не так, чтобы очень. Просто ее по-всякому сосчитать можно, а зарядов каждый раз будет ровно столько, сколько заяц стоит». И тогда тот прищурился и посмотрел на деда так, словно прикидывал, сколько может стоить сам старик. Только вот, говорил нам дед, никак не понять было, на что он меня пересчитывает: на зайцев или заряды.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу