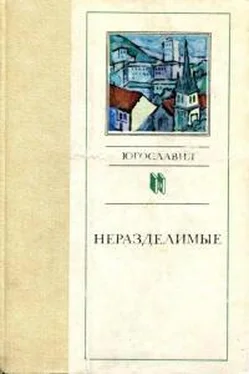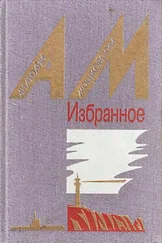Думаю, может, к атаке швабы готовятся. Беру бинокль, пытаюсь разглядеть, что там у них делается.
Стрельба утихла, от размокшей во рту цигарки на губах ледяная корка.
Снова меня гонят, снарядов, мол, нет, иди.
Цигарка, Чеперко, — верный товарищ. Зудит, ногам покоя не дает. Спустился я чуть ниже к немецким позициям, может, разгляжу получше, что там делается. Все мерзлое, сучья на холоде ломаются — точно сойки кричат. А потом снова тишина, все засыпано снегом.
Возвращаюсь, мои опять меня гонят, пойди прикури и про смену напомни, как бы не забыли.
Курить хочу, умираю. Ни разу в жизни, Чеперко, мне так курить не хотелось. И вдруг решился: пойду.
Скатился по косогору, прикурил у костра, погрел руки. «Что наверху?» — спрашивает командир. Ничего, говорю, и назад.
Залез наверх, смотрю — нет моих. Смотрю лучше: тут мы были, следы наши видны, вон в том овражке отливали, снег желтый. Да где ж они?
Дунул ледяной ветер, и за моей спиной внезапно плюхнулось что-то с ветки. Мигом обернулся, автомат на изготовку: а там, на снегу, окровавленная нога в сапоге. Оцепенел я, мама родная, скривило всего. Глянул на дуб: кишки висят, разорванные ранцы, руки, тряпье всякое, а в развилке сучьев Микина голова, сама по себе, смотрит на меня золотым зубом.
Чеперко, ведь и меня бы снаряд вверх поднял, если б не судьба-индейка да не друг-цигарка.
В тот же день, в полдень, взяли мы пленного. Допрашивали его в штабе, а под вечер вызывают меня: в расход! Сплюнул я, противно, никогда я этим не занимался.
Повел я белобрысого, руки у него за спиной ремнем связаны. Шагает немец по протопке впереди меня, кругом пусто и бело, ни звука, небо синее, чистое, ни одного облачка — ничего, и сверху холодом бьет, на протопке мы одни, гляжу ему в спину — прямая. Там сердце и прочая дребедень. Выше голова покачивается — с мыслями человек собирается, ничего не попишешь.
Думаю: автоматом тр-р-р, продырявлю спину. Внезапно, не предупреждая. И готов.
Нечего тут рассусоливать, на войне все просто. В расход так в расход! Моих парней вон снарядом в небо сдуло. И перед глазами у меня опять Микина голова в развилке веток: зажмурился, изо всех сил веки стиснул.
Иду, снег скрипит, словно зубами кто скрежещет. Только этот-то не артиллерист, пехтура, вот он кто. Глаза слезятся, усталость на меня навалилась.
Я снова думаю: и чего замлел? Хочешь дать тягу — беги. Мне только на руку. Снова себя распаляю: он твой враг! Мы своих даже похоронить не смогли, остались на ветках — птицами. Нет больше Мики, Митара и молоденького боснийца… Так люди у людей отнимают жизнь.
Вожу языком во рту, курить охота. Немец чистый, белый. Лица его я толком не видел, не знаю, есть ли на нем хоть один шрам; это все равно что в зверя стрелять. Хорошо, что хоть говорить с ним не могу.
Увидел я красноватые кусты, решил: здесь. Тронуть его за плечо и показать? Надо ведь по правилам: снять китель, брюки — все ж новое. И сапоги.
Тронул его за плечо, он вздрогнул.
— Вон туда, в те кусты, — сказал я.
Он кивнул головой и словно бы произнес: «Ладно».
Должно быть, я ослышался. Откуда немцу знать сербский?
Залез он в снег по колени. В кустах два пня чернеют. Смерил я его взглядом с головы до пят и говорю:
— Садись на пень.
Он точно выполнил приказ. Я сел на другой, автомат положил на колени.
— Ты что, сербский знаешь?
— Знаю.
— Ух ты, а сам откуда?
— Из Вршаца.
— Здорово. — Сплюнул я в снег, тошнота к горлу подступает. — Как звать?
— Гарри Клейст.
— Да ты же настоящий шваб!
— Немец.
— Это одно и то же, осел, — говорю я.
— Чего ждешь, стреляй! — И Гарри Клейст стал весь багровый.
— Хорохоришься, шваб, а сам небось в штаны наложил. Я могу и нос тебе откусить. И уши — одно и другое. Будешь без ушей ходить. Видишь свинец (показываю ему пулю), жахнет в голову — и все.
Натужился весь, побледнел шваб. Правильно: перед смертным часом надо с него малость гонор сбить. И голова Мики мелькнула в кустах; золотой зуб глаза колет, не дает о себе забыть.
Ощетинился я, кусаю губы, выпущу, думаю, в него целую очередь. Я тоже белый как полотно, знаю, но все равно раздавлю его, как букашку. А Гарри Клейст обернулся, уставился на меня и говорит:
— Вот я и вижу тебя.
Чудно он как-то это сказал, вроде бы сам удивляясь.
— Ну и что?
— Вижу, говорю.
— И я тебя вижу.
— Черный, небритый. Все на тебе висит, так я себе вас и представлял. Звездочки на шапках дерьмовые.
— Ничего, будут у нас фабрики, наштампуем, какие надо.
Читать дальше