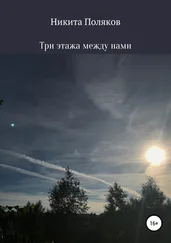А поручик Алферьев был к тому же красавцем: густые золотистые волосы, голубые глаза, кавалергардская стать. Говорил он на трёх живых и двух мёртвых языках, пел приятным баритоном романсы и арии, а кроме того, прекрасно разбирался в поэзии, знал наизусть всего Гумилёва, да и сам сочинял изрядно. Вся Добровольческая армия повторяла его эпиграмму, размноженную ОСВАГом:
Когда под вечный гул колоколов
С победой мы войдём в Москву святую,
Не стану вешать я моих врагов,
Я их прощу, как только четвёртую…
И вот представьте себе, красавец Рюрикович, подгоняемый штыком интернационалиста Чжау Вея, входит в сырой мрачный подвал, где стены залиты кровью мучеников новой русской смуты. Юдифь, одетая, конечно, в кожанку, сидит за столом и, брызгая чернилами, строчит смертный приговор члену ЦК партии правых эсеров Зайцману, который увлекался юными актёрками и часто в прежние годы заглядывал в ювелирный магазин «Гольдман и сыновья», имея скидку как постоянный клиент.
Уловив движение в дверях, суровая следовательница оторвалась от бумаг и встретилась глазами с вошедшим. Что тут сказать! Таких глаз, отчаянно-голубых, как васильки Шагала, она ещё в жизни не встречала. Юдифь почувствовала странный озноб, пробежавший по всему телу, и приняла его поначалу за приступ классовой ненависти. А белокурый черносотенец, наслушавшийся в камере леденящих рассказов о жестокой чекистке, с удивлением обнаружил перед собой хрупкую пышноволосую жидовочку с огромными чёрно-лиловыми глазами. Таких бархатно-печальных глаз ему ещё видеть не доводилось. Фёдор усмехнулся и, к изумлению суровой дознавательницы, продекламировал своего любимого Николая Гумилёва, ещё в ту пору не расстрелянного по делу Таганцева:
Какой мудрейшею из мудрых пифий
Поведан будет нам нелицемерный
Рассказ об иудеянке Юдифи,
О вавилонянине Олоферне?
Ведь много дней томилась Иудея,
Опалена горячими ветрами,
Ни спорить, ни покорствовать не смея,
Пред красными, как зарево, шатрами…
Но бывшая курсистка тоже знала наизусть Гумилёва, у неё даже был его знаменитый «Колчан» с дарственной надписью. Не дрогнув бровями, она с честью ответила кровному врагу:
Сатрап был мощен и прекрасен телом,
Был голосу него, как гул сраженья,
И всё же девушкой не овладело
Томительное головокруженье…
Но она лукавила, во всём теле ощущая ту знобящую истому, какая обычно предшествует «испанке» или же другой не менее опасной болезни – любви.
– Садитесь, Алферьев, у меня мало времени, – устало проговорила чекистка.
– Чтобы убить человека, много времени не нужно… – усмехнулся он.
– Мы убиваем не людей, а врагов…
– Мы – тоже…
– Разберёмся!
А что разбираться? Перед ней – офицер, белогвардеец, погромщик. К стенке – и баста! Но беспощадная карательница, без сомнений отправлявшая на смерть юных добровольцев и седых царских генералов, вдруг заколебалась. Она не хотела, чтобы этот глубокий голос, исполненный доброй иронии, замолк в последнем предсмертном хрипе. Она не могла представить себе благородное лицо Фёдора, обезображенное тлением, его мёртвое голое тело, брошенное на поживу червям в безымянную яму на окраине Киева…
– Рассказывайте! – приказала Юдифь, взяв новое перо и чистый лист бумаги.
– Что именно?
– В каком году вы родились?
В общем, чекистка Гольдман влюбилась по уши и начала всячески затягивать очевидное дело, она снова и снова вызывала поручика в подвал, объясняя товарищам, что почти уже вышла на след разветвлённой монархической организации. Только на допросах говорили они не о явках, складах оружия и зарытых ценностях, нет, но, как в старые добрые времена в каком-нибудь декадентском салоне, рассуждали о музыке, поэзии, живописи… Молодые люди радовались, когда их взгляды, скажем, на Ахматову совпадали, и огорчались, если по-разному относились, допустим, к ломаке Северянину. Вскоре наступила новая фаза любовной лихорадки: они удивлялись, почему так поздно в этом году распустились киевские каштаны, и всерьёз спорили, отчего соловьи не поют днём…
Одним словом, болтали о пустяках, которыми мужчина и женщина, устремившись телами друг к другу, заполняют томительную пустоту сближения. Наконец влюблённые люди заспорили об Арцыбашеве, о футуристах жизни, ходивших по улицам нагишом с плакатами «Долой стыд!»; о теории «стакана воды» большевички Коллонтай, считавшей, что удовлетворение половых желаний – дело такое же естественное и неотложное, как утоление жажды в жаркий день. Попил и забыл! За этими неосторожными разговорами они впервые поцеловались. Потом ещё, ещё и ещё! А затем, отправив с надуманным поручением в штаб флегматичного, но доглядчивого латыша Арвида Пельша, Юдифь сбросила кожаную тужурку, сняла гимнастёрку с орденом Красного Знамени, скинула юбку, пошитую из английских галифе, и развязала красную косынку. Пышные чёрные волосы, которым позавидовала бы святая Инесса, распавшись, почти скрыли от жадных взглядов Фёдора её изящную худобу, отягощённую нежданно обильной грудью. Девственная чекистка Гольдман отдалась черносотенцу Алферьеву прямо на двухтумбовом столе, заваленном протоколами допросов и бланками приговоров, отдалась с такой бурной искренностью, что узники в застенке трепетали, слыша стоны, доносившиеся из кабинета. Они думали: жестоковыйная еврейка пытает какую-нибудь отважную гимназистку, перебелившую прокламацию монархистов. А Юдифь тем временем просто не могла сдержать пронзительных криков женского счастья, которое ей, отказывавшей себе во всём ради революции, открыл этот могучий, ненасытный Рюрикович. Да, коллега, да: они слились, как две горные реки, устремлённые в общее русло.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу




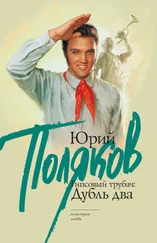

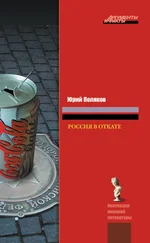


![Никита Поляков - Три этажа между нами [СИ]](/books/416006/nikita-polyakov-tri-etazha-mezhdu-nami-si-thumb.webp)