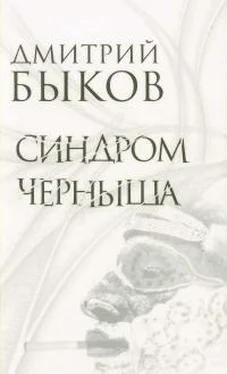— Ну конечно. Тогда же все такие были: хочу того, не знаю чего. И я коротко стриженная, да?
— Почему, не обязательно. Можно как сейчас, с хвостом. Ты же очень чистая, и Паша тебе тоже не велит коротко стричься, как эти всякие стиляги.
— Стиляг давно нету.
— Еще как есть! Короче, Паша случайно видел — или кто-то ему донес, — что приезжий журналист хороводится с его девушкой. Отвратительный лощеный москвич, в плащике. Ну, он покажет мне этот лоск, помажет мне этот плащик! И вот, когда я, проводив тебя, иду по ночному Нефтеангарску к двухэтажной деревянной гостинице «Ангарские огни», с легкой печалью думая о том, что вот и еще одна хорошая девушка, еще один вариант судьбы, и все это никогда не будет моим, потому что мы слишком разные... и только будем друг друга вспоминать как прекрасную нереализованную возможность... иду такой, курю, немного похож на Мастроянни и знаю, что похож...
— Знаю, знаю! — Она даже подпрыгнула на полке. — Из темноты выходит Паша!
— Точно, выходит Паша. Он выдвигается мне навстречу, крупный, надежный, выпимши для храбрости. Если бы бить своего брата нефтеангарца, он бы и без выпивки был храбрый. Но я диковинный зверь, непонятно, чего от меня ждать, — и он насосался и подходит и нагло спрашивает: «Ну чё, товарищ журналист, как в Москве насчет абстракционизьму?»
— Это от меня он, что ли, набрался?
— Да, может, и от тебя. «Ну что, как там наше Кикассо? Как наш Матист? Как наши пидорасы? Это они тебя, тварь, научили с чужими девками гулять?!»
— Слушай, как ты похоже показываешь... Даже тошно.
— It’s my job. И он заносит крепкий кулак, но это все-таки шестьдесят пятый год, так что стандартные схемы уже несколько трещат. Уже наш журналист — назовем его Дима — не так прост, уже он изображается не одними черными красками, у него были послевоенное дворовое детство и суровая юность, он сам, может, из барака в Измайлове... И он сжимает Пашино плечо своей довольно-таки железной рукой и делает так, что Паша слегка хрустит и с криком боли и изумления — вот так: «С-э-э-у-к-а!» — оседает в грязь близ гостиницы «Ангарские огни».
— Какой ты храбрый!
— Ну дык. Однако, представь, победа не доставляет мне ни малейшей радости. Я иду к себе в номер с заметно испорченным настроением, раскладываю на столе пухлые от фактов блокноты и начинаю писать в номер. Но я, хотя и не совсем отрицательный, все-таки интеллигент, конформист, все дела. Будучи от природы неглуп и даже почитывая Кафку, я заполняю свои газетные очерки самой дешевой халтурой вроде: «Еще год назад жителями Нефтеангарска были одни медведи— шатуны. Теперь на свежем зеленом ветру гудят здесь вышки электропередачи и смелые молодые люди строят город, населять который — им»... Сама понимаешь, мне совершенно не до того, но работа есть работа.
— Работа есть всегда, — кивнула она.
— Ну вот. Я курю «Столичные» (что мне еще курить? Я же не шпион, чтобы курить «Мальборо»!), пишу свою халтуру, тру лоб... А в это время — знаешь ли ты, что делает Паша?
— Собирает дружков?
— Нет, какое. Ты ничего не понимаешь в Пашках. Он идет, естественно, к тебе и срывает на тебе злость. Вызывает тебя из твоего барака — а ночь ветреная, август, дело к осени... Ты в пальто, накинутом на ночную рубашку. Он кричит на тебя. Ты пытаешься увещевать: «Паша, поздно, мы поговорим завтра». Он ничего не хочет слушать. «Эта мразь... эта тварь московская...» — «Как ты можешь! Ты же совсем его не знаешь!» — перебиваешь ты, не желая слушать поношения, и тут он звереет окончательно. Он ударяет тебя наотмашь по круглой щеке и с проклятиями бежит в сторону родного крана — жаловаться ему.
— Сейчас он влезет в кабину и по кирпичику разнесет построенное.
— Нет, ты что, у нас соцреализм. Никуда он не влезет, будет оплакивать свою непутевую жизнь. «Я его все равно убью!» — кричит он тебе, оборачиваясь и грозя кулаком. Аты, и без того настроенная против Паши, который против меня, конечно, не канает, — бежишь ко мне в «Ангарские огни», предупредить. Ты мчишься по грязи в чем была, в пальто поверх ночной рубашки, старуха на проходной тебя пропускает — ты же любимица города, — ты колотишь кулачками в мою дверь, и выхожу я.
— Весь в белом.
— Ну да, я же и статью пишу в галстуке. В комнате слоями лежит табачный дым, на столе черновик почти готового очерка «Белозубые люди»... Ты бросаешься мне на грудь, и я ощущаю все твое тело...
— Сквозь тяжелое осеннее пальто. Очень интересно. Дальше мы теряем голову или как?
— Как это мы ее теряем на «Ленфильме» в шестьдесят пятом году? Мы вон в две тысячи седьмом в спальном купе все никак не потеряем, а ты вон чего хочешь...
Читать дальше