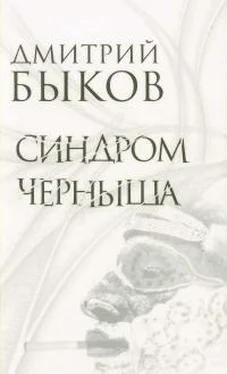— А куда в Крым? — спросил он.
— Ой, мы много куда ездили. В Судак, в Севастополь. У папы в Феодосии друзья были.
Трубников вспомнил Феодосию, таинственного папиного друга, к которому лет восемь не обращались, а тут Верка взяла его адрес и, предупредив телеграммой, не ожидая ответа, отправилась с молодым человеком в гости. Молодой человек говорил, что ничего хорошего не выйдет, но она только смеялась в ответ — девятнадцать лет, что вы хотите. Никакого друга на месте, естественно, не оказалось, он вообще переехал два года назад в Самару, как сообщили соседи, — эти же соседи указали и дом, где можно было за дикие деньги получить крайне убогую комнату; хозяйка все время плакала — у нее за неделю до этого погиб муж, молодой человек усмотрел в этом дурное предзнаменование, а Верка не верила во всю эту ерунду. Почему-то в тот год было страшное количество абрикосов. Наверное, это тоже было предзнаменование. Маленькие, хрупкие пароходики ходили по морю в Коктебель. Уезжали утром, возвращались вечером, в синих сумерках. Верка рассказывала страшное — импровизировала вообще с необыкновенной легкостью. Ночи были жаркие, она лежала, откинув простыню, а он смотрел на это счастливое бесстыдство: лежит, как Вирсавия, рубенсовская женщина, а на что смотреть-то, кожа и кости, птичьи ребрышки, подростковые тонкие ноги... Но что-то было, что-то необъяснимое, никогда и ни к кому так не тянуло.
Трубников сидел и думал: надо выйти, ведь она хочет лечь. Но он не представлял себе, как войдет и что будет делать, когда она переоденется. Все, что она говорила, он пропускал мимо ушей.
— Вы не слушаете?
— А? Нет, я слушаю.
— Нет, вы не слушаете. У вас болит что-то, да?
— Ничего не болит.
— Но вам не до меня, по-моему.
— Нет, Вера, говорите. Что вы. Очень интересно.
— Я говорю: а как они там отнесутся, в городе? Как вы думаете?
— Ну, откуда же я знаю. Я сам там не живу, только сестра. Но я думаю, город будет против, конечно.
— Почему?
— Видите ли... во-первых, мотив сострадания там исключен. — Он заговорил с привычной лекторской интонацией и сам себя одернул: не сочетается с нашей внешностью и повадкой рыбака, толстяка, туриста, станового хребта страны. — Они же обчистили квартиру, так? Потом, даже доктора этого, Караян или как его там...
— Кеворкян. Доктор Смерть.
— Ну да, Кеворкян... его же тоже приговорили, в Европе, в разгар политкорректности. Насколько я слышал, только в Голландии эвтаназия разрешена... и в Израиле, что ли...
— В Швейцарии, — сказала она. — В Англии...
— Ну, может быть. Я не занимался.
— А чем вы вообще занимаетесь?
— Я врач, — сказал он.
— Видите, как замечательно. — Она сидела, положив ногу на ногу, упершись подбородком в ладонь, — поза несколько искусственного, детского, умиленного внимания. — Но сами-то вы как относитесь?
— К чему?
— К эвтаназии.
— Резко отрицательно, — сказал Трубников. — Резко.
— Почему, можете сказать?
— Я думаю, — выговорил он не очень уверенно и на всякий случай опустил глаза, — я думаю, всё лучше, чем смерть.
— Ну, об этом вы, мне кажется, представления иметь не можете.
— А вы можете?
— Я могу, — сказала она твердо. — Бывают вещи значительно хуже смерти. Значительно.
— Это всё гуманитарные прибамбасы, — отмахнулся Трубников. — Тыр-пыр, восемь дыр. А я рассуждаю как врач — и для меня живой пациент всегда лучше мертвого. Даже если я ничего не мог сделать — все равно.
— Как вы сказали? — снова насторожилась она.
— Я говорю, если даже я ничего не мог сделать...
— Да нет! — она отмахнулась. — Вот сейчас, только что, про тыр-пыр...
Черт возьми, подумал Трубников, до чего приставучи все эти идиомы, словечки-паразиты, по которым нас можно будет узнать и после конца времен! Собственно, моя речь из них и состоит. Частицы и междометия. А что еще может сказать человек, имея мой опыт? Нет человеческих слов для такого опыта, при встречах только по глазам друг друга и узнаём... Иногда в городе встречаю наших — сразу раскусываю; подошел бы, поздоровался, но этикет, сами понимаете, этикет... Может сойти, а могут лишить отпуска, и хорош я буду.
— Про тыр-пыр, — терпеливо пояснил он, — это такая пословица. Основана на том, что у человека восемь дыр. Ну, не у всякого, у женского человека...
— Вы что, и уши считаете? — в ужасе спросила она.
— Это не я, это народ. А вы что же, за эвтаназию?
— Да, — сказала она решительно. — То есть я могу понять человека, который этого требует. И больше вам скажу — лично для себя я хотела бы эвтаназии.
Читать дальше