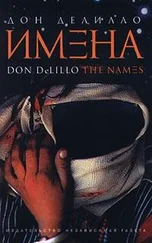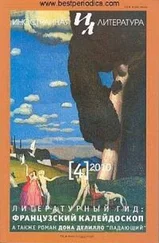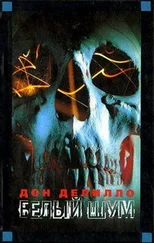Ему отводят не ту роль, или же навязывают чужую – например, роль Освальда. Теперь они соучастники преступления. Они повязаны навсегда.
Адвокаты удаляются, и заходят, пританцовывая, врачи. Рак распространяется. Он чует это по рукам тех, кто его обследует. Джек Руби читает свои телеграммы.
Понимает ли кто-нибудь всю глубину его отчаяния, нескончаемую муку бестолковой жизни, начиная с беззубой Фанни Рубинштейн [28]на Рузвельт-роуд, которая кричит по ночам, начиная с самых первых конфликтов, какие он помнит: прогульщик, живущий на попечении штата, в чужих семьях, начиная с первого удара, с шока от понимания, каково это – быть ничтожеством, осознавать свою ничтожность, каково это, когда изо дня в день, год за годом тебе вдалбливают, что ты никто?
Вы не понимаете меня, Верховный судья Уоррен.
Он начинает сливаться с Освальдом. Не видит разницы между ними. Он знает наверняка только одно – не хватает какой-то детали, слова, которое вычеркнули полностью. Джек Руби перестал быть человеком, который застрелил убийцу президента. Он – тот, кто убил президента.
Вот почему евреев заталкивают в машины смерти. Все из-за него. Такова мощь и движущая сила эмоций толпы.
Теперь Освальд в нем. Невозможно бороться со знанием того, чем он стал. Мировая истина отнимает все силы. Он опускает голову и бьется о бетонную стену.
И Николас Брэнч изучает отчеты психиатров. Читает до ночи. Засыпает в кресле. Временами кажется, что он больше не может. Опускаются руки, ощущение мертвых почти парализует. Мертвые у него в комнате. И фотографии мертвых оглушают скорбью его разум. Разум старого человека. Но он не сдается, продолжает работу, пишет свои заметки. Он знает, что ему не выбраться. Это дело будет преследовать его до самого конца. Конечно же, им всегда было известно об этом. Потому они и создали для него эту комнату, комнату, в которой стареют, комнату истории и снов.
Воскресный вечер. Берил Парментер смотрела телевизор в своем маленьком доме в Джорджтауне. Повторяли запись выстрелов.
Снова и снова. Экран заполняют широкоплечие мужчины в шляпах, окружают Освальда, голова у того непокрыта, лицо белое на ярком свету, только темный левый глаз тускло блестит. В кадре появляется Джек Руби, неуклюжий и сгорбленный. Его рука – светлое пятно вокруг револьвера. Изображение дергается. Удивление и боль на лице Освальда выделяют его из окружающей компании. Он один, уже где-то далеко, единственный, кто знает, что случилось. Холодный миг неподвижности после выстрела. Затем все разлетается.
Она не хотела, чтобы эти люди попали к ней в дом.
Камера фиксирует не все. Кажется, будто не хватает кадров, каких-то уровней информации. Как бы ни был прост и короток выстрел, он слишком насыщен, слишком запутан в наглых энергиях. Каждый раз становятся видны новые подробности. На этот раз она заметила, что в нагрудном кармане у Джека Руби лежат очки в темной оправе. Освальд умирает неизменным.
Почему запись все время повторяют, снова и снова? Они думают, что если прокрутят пленку тысячу раз, Освальд исчезнет навсегда? Она хорошо понимала, о чем думал Руби. Он хотел стереть с лица земли этого человечка. Хотел убрать его. Не хотел его видеть, слышать о нем, вспоминать о нем. Как и все мы, Джек. Мы тоже хотели, чтобы его не было. И вот его нет, но легче нам не стало.
Берил восхищалась президентом Кеннеди. Она даже чувствовала, будто сама лично немного участвовала в его восхождении, своего рода шкурный интерес, поскольку семья Кеннеди какое-то время жила в кирпичном доме на Н-стрит, фактически за углом, когда Джек был сенатором. Она хотела ощутить удовлетворение от гибели Освальда, будто свершилось некое возмездие. Но эта запись только усиливала и продлевала кошмар. Кошмар из кошмаров.
Она не хотела видеть этих людей. Но чувствовала себя морально обязанной смотреть дальше. Они показывали, она смотрела. Только убавила звук, потому что от голосов репортеров хотелось плакать.
Она плакала все выходные, плакала и смотрела. Не могла избавиться от ощущения, что ее обнаружили. Эти вооруженные люди в шляпах проникли в ее дом. Картинки из другого мира. Они нашли ее, заставили смотреть, и это совсем не похоже на газетные вырезки, которые она рассылает друзьям. Она чувствовала, как это насилие выплескивается, снова и снова, мужчины в темных шляпах, в серых шляпах с темными лентами, в бежевых «стетсонах», в белых фуражках с кокардами и блестящими козырьками. Вон тот человечек без шляпы сказал «Ох» или «Нет».
Читать дальше