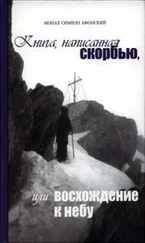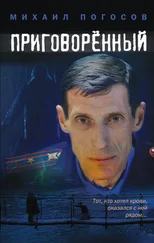— Можно я оставлю вот эту вещь?
— Нельзя!
— А вот это разрешите взять с собой?
— Не положено! Теперь тебе ничего не положено.
— А как же мне… — хотел я уточнить.
— Никак!
— Понятно. — Возражать против толпы агрессивно настроенных людей в моей ситуации подобно самоубийству. Я чувствовал их желание меня смять, избить, уничтожить; оно витало в воздухе. Только дернись — и эти люди сорвутся на мне, вымещая все свои обиды на жизнь.
Тут же бросили меня на табуретку, и какой-то перепуганный зэк из хозобслуги неловкими движениями начал брить мне голову. Налысо. Я сидел, опустив взгляд в пол. Передо мной сидела овчарка с внимательными и умными глазами. Смотрела, считывая малейшие движения моего тела.
Руки сзади туго застегнуты в наручники. Клочками падают на пол мои темные волосы. И мне кажется, что вместе с ними падают клочки моей прошлой жизни. Безвозвратно! Падают на грязный серый бетонный пол, затоптанный, заплеванный, сотни раз забрызганный кровью…
Я смотрел на своего «парикмахера», на овчарку, на клочки своих волос, и мне казалось, что это очень важный экзистенциальный момент, переломный, трагический, наполненный огромным удручающим смыслом, в котором преломляется вся моя судьба. Именно потеря волос на голове, потеря таким грубым насильственным методом, заставляла меня думать, что так же насильно у меня отобрали жизнь! Поломали, разорвали, осквернили, и теперь она валяется на грязном полу у всех под ногами. Ее сметут веником в грязное ведро и выбросят на помойку. Как и меня.
Кожей головы я ощущал теперь свежую прохладу. Некомфортное и неприятное чувство. Меня как будто оголили, раздели перед всеми и выставили на обозрение. Как будто сняли последний защитный слой, без которого чувствуешь себя униженным, уязвленным. В сознании сверкнула мысль, что это одно из первых унижений, череду которых мне еще предстоит примерить на себя. «Так что это мелочь», — отметил я про себя.
Закончили стричь. Двое одиозных тюремных клерков схватили и заломили мне руки так, чтобы я от боли в суставах пригнулся к земле. Очередная попытка сделать из человека пресмыкающееся. Все человеческое во мне заставляло сопротивляться и держать тело прямо, превозмогая боль в плечах. С заломанными руками меня повели по длинным коридорам в сторону Красного корпуса. Именно там содержат пожизненников, пока они не отбудут в предназначенный им ад.
Сама процессия была безмерно отвратительна! Демонстративная, громкая, грубая, привлекающая к себе (и ко мне) ненужное внимание. Словно вели по узким людным улицам старого европейского города во времена инквизиции приговоренного к смерти беднягу, которого обвинили в растлении и расчленении собственных детей с последующим их поеданием. В меня только не кидали камни, сгнившие овощи и не обливали помоями. Но эффект от этой громкой показухи был схож.
Меня волокли человек шесть из числа «инквизиции». Двое непосредственно заламывали руки, что-то лая на меня время от времени. Остальные шли рядом. Разгоняли перепуганный народ. Впереди всех шел очень крикливый, агрессивный ДПНС, громко выкрикивая грозным голосом краткие директивы: «Уйти в сторону! Отвернуться к стене! Назад! Закрыть дверь! Стоять! Освободить коридор! Ты чё, меня плохо слышишь?! Э! Закрыть камеры, закрыть камеры, я сказал!» — и испуганная дежурная бросалась выполнять приказ начальника. В хвосте этой шумной клоунады плелся кинолог со своей злой и голодной овчаркой, которая усердно подхватывала этот очумевший ажиотаж, дополняя его раскатами гулкого лая, что оседал у меня где-то в позвоночнике.
Обезумевших обитателей влажных застенков разрывал интерес: что за шум?! Кого ведут? Ведут меня! Обычного человека с душой и сердцем, только что осужденного, но не на срок, а на тюремную бесконечность. Ведут нагло, дерзко, унизительно, привлекая ко мне незаслуженное и ненужное мне внимание. Я встречаю и чувствую на себе десятки взглядов. Я — эпицентр всеобщего интереса! Все пытаются заглянуть мне в глаза, распознать во мне знакомого, чтобы, разойдясь по своим камерам, рассказать, кого они сейчас видели и при каких обстоятельствах.
А мне тошно на них смотреть! И противно, что я являюсь предметом такого интереса. Может, это странно звучит, но мне было стыдно пребывать в статусе «пожизненника»! Потому что мое представление о себе никак не отождествлялось с тем, за кого меня принимали, за кого должны были принимать.
На протяжении всего пути от комнаты обыска до камеры, которую для меня подготовили, я чувствовал одно непрерывное унижение вперемежку с болью в суставах плеч и рук, получаемую в борьбе за право идти прямо, как и все нормальные люди.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу