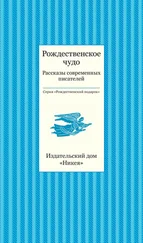Они даже не посмотрели на меня. Я повторил.
— Что он говорит? — спросил сын по-английски.
— Я говорю, вставайте, пожалуйста, и сейчас же уходите, — сказал я на их языке.
— Что это значит? — спросила женщина, и улыбка сошла с ее лица. — Где господин Бах?
— Я не знаю, — ответил я. — Вставайте и сматывайтесь.
— Что случилось? — добивался сын.
Они обменялись несколькими фразами на быстром нервном английском. Парень пожал плечами, закончил есть, вытер руки полотенцем и надел рубаху. Тетя собрала посуду и составила ее в раковину. Затем она надела платье, а я стоял над ними как часовой.
В этот момент раздался звонок. Дядя! Нет, в дверях стоял высокий худой человек с волосами, гладко зачесанными назад, в роговых очках и в одежде туриста. Он вежливо обратился ко мне, но прежде чем я успел перевести себе, что он сказал, на порог выскочила маленькая светловолосая женщина и повисла на нем с криком: «Артур, диар».
— Хелло, — произнес мужчина голосом моего учителя, читающего из «Ридер фор бегинерз». Он поцеловал тетю в щеку и спросил:
— Ну как, нашли его?
Мой двоюродный брат застегнул рубашку.
— Нет, дэд. Но мы прекрасно провели время.
Часа через два после ухода моих родичей я отправился на розыски дяди. Я запер двери типографии и отправился по кинотеатрам. Три раза я покупал входные билеты. В конце концов я нашел его в «Тамар» среди немногочисленных зрителей, собравшихся на первый сеанс. Дядя с увлечением смотрел фильм, который назывался, кажется, «Счастливые времена». На экране Шарль Буайе обнимал своего сына Боба Дрискола и преподавал ему урок зрелости и мужества. Я прошел и сел возле дяди.
— Ушли? — спросил он, не сводя глаз с экрана, будто ждал моего появления.
Я кивнул. В темноте я почувствовал, как по его телу прошла волна облегчения и он расслабился, как будто до сих пор все время сдерживал дыхание.
— Я никак не мог, — сказал дядя. — Эта, стало быть, проклятая нога. Боль адская. Пришлось забежать сюда, чтобы хоть как-то ее успокоить.
Фильм мы досмотрели в молчании до последних титров, а затем поспешили в «Офир», чтобы поспеть на второй сеанс.
Шуламит Харэвен — автор ряда сборников рассказов (также для детей), стихотворений, романа. Первый стихотворный сборник «Хищный Иерусалим» вышел в свет в 1962 году. Наиболее известны: сборники рассказов «Право выбора» (1970), «Одиночество» (1980), роман «Город многих дней» (1972; переведен на английский язык и издан в Америке), рассказы «Ненавидевший чудеса» (1983), повесть «Мессия или Кнесет» (1987) и др.
Ненавидевший чудеса
Пер. В. Кукуй
Уходили все время. Из города, иные — от родичей, исчезали из обжитых мест на египетской земле и прибивались к тем, кто ушел раньше. Недалеко уходили: до ближайшего оазиса, до расселины, где бил ключ. Хотели, чтобы пески пролегли между ними и страной египетской, отдалили бы от ее вельмож и чиновников. Всего лишь.
Вождей у них не было. Наверное, и обычаев не было. Сидели себе в оазисах, жизнь влачили бедную и самую что ни есть несчастную, низменную — палимые солнцем, кутаясь в изношенное черное; гикали на свои стада, такие же, как они, тощие и темные, часто промышляли грабежом. Порой посылались воины — подчинить их властям. Но редко, поскольку такие поручения полагались опасными. Босяки из оазисов умели ударить ловко и хлестко и так быстро исчезали в песках, что и ветру было их не сыскать. Останки тех и других, валявшиеся на месте схватки, год за годом жгло солнце, и наконец уже не различить было, где прах человеческий, а где — сама земная суть. Железо же и всякая нить, покрывавшие их, разграблены были давно.
Иногда кто-нибудь из этих беглых приближался к земляному валу, ограждавшему сельскую усадьбу — вроде бы тайком, крадучись, а на самом деле — нагло, выделяясь черным рваным одеянием, темным загаром на грязной коже, подобной роговому покрову ящерицы, — тень, напоминающая воронью, мимолетно скользила по стене, и всяк, ее заприметивший, только и говорил: кто-то из этих. Спрятав в складках одежды селезня, схваченного за крыло в оросительной канаве, либо арбуз, коли уже поспел, они стремглав бежали обратно в пустыню, оставляя за спиною проклятия и насмешки. Отгоняли их лениво, в недвижном, бездеятельном замешательстве наблюдая за этим бесстыдным побегом.
Все их презирали. Изгои, называли презрительно, пропащие. Потому как пришел когда-то один из них и сказал: еврей пропащий отец мой. Даже беднейший из рабов, даже поденщик последний не выдал бы ни за кого из них свою дочь. Однако они почти не приходили. Те, что ушли, не возвращались. Пески, лежащие между ними и жителями возделываемой полосы, где были обводнение и полив, полевой оборот, вельможи и рабы, где признавались межа и забор, и мировой порядок сопутствовал буйволу, изо дня в день медленно ходившему по кругу и вращавшему колесо, — пески эти означали окончательный разрыв.
Читать дальше
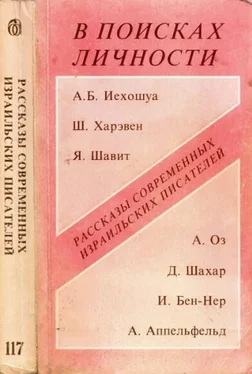
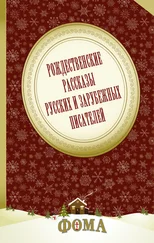
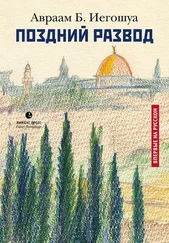
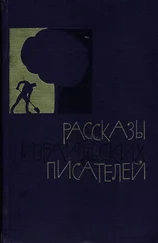
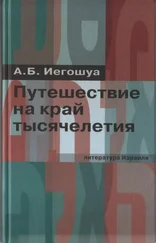

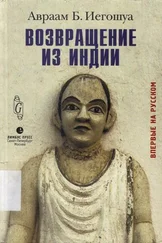
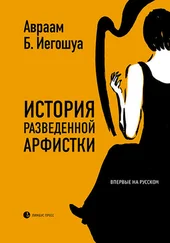
![Авраам Иегошуа - Дружественный огонь [litres]](/books/396016/avraam-iegoshua-druzhestvennyj-ogon-litres-thumb.webp)
![Роман Сенчин - Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей [сборник litres]](/books/436567/roman-senchin-bez-ocheredi-sceny-sovetskoj-zhizni-v-thumb.webp)