Жандармы устроили мне проверку, но, увидев, что я солдат, возвратившийся со службы, прониклись ко мне уважением. Я рассказывал им о маневрах, в которых участвовал сам, и о стычках на японском фронте. Они внимательно выслушали и заявили:
«Вот такие евреи, как ты, нам нравятся».
А в субботу пошел я в синагогу. И волнующее чувство овладело мною. Трепет перед богослужением охватил, захотелось сесть на колени, распластаться на полу и прикоснуться к нему губами. Только одно было удивительно, — никто не кричал изо всех сил, не бил себя в грудь и не взывал к Богу. Люди были притихшие, словно отсутствовали, и лишь небесным светом озарялись их лица. Тогда я понял: их души не смогли бы выдержать никакой встряски.
Пришла зима. Река остановилась. И я остался один на один со своим одиночеством. Снова позвали меня на заседание общины, стали допытываться о моих дальнейших планах, а потом один из общинных деятелей в примирительно-спокойном тоне стал объяснять мне, что они совсем не желают того, чтобы со мной что-нибудь случилось нехорошее, но, вне всякого сомнения, это не мой родной город. И мне стоит походить по соседним городам, может быть, там меня опознают — не может же человек мотаться без дела в городе.
Я знал: просьбы не помогут. В Сибири человек умел подчиняться судьбе, он умел быть сильным. Но стоило только ему освободиться от сибирских невзгод, как силы покидали его, и тогда каждый мог справиться с ним. Жгучая метель словно служила ему надежным щитом.
Но воспоминания о сибирских морозах уже не могли мне помочь. Я давно подумывал о том, чтобы убраться из этого города и перебраться в соседний. Однако мои друзья, погонщики скота, отговаривали меня: «Нет, это не спасет. Они прекрасно знают, что ни одна община ни в одном городе не согласится принять возвращенца. Им бы лишь освободиться от тебя и не брать на душу грех, что ты будешь слоняться по улицам без дела».
Остатки осени прошелестели по вершинам деревьев. Я уже было решил навсегда остаться чужим в изгоняющем меня городе, проводить целые дни возле прилавка и вслушиваться в гортанную речь родного мне языка.
Но и этому, как видно, не суждено было случиться. Пастухи ушли, чтобы привести к зиме скот. И скупщики уже дожидались их у открытых дверей лавок.
Я тем временем побывал в жандармерии и просил оказать мне содействие. Но и там ничем не могли помочь. Жандармерия тоже зависела от общины, которая ежемесячно давала ей крупную взятку. Лишь по ночам пел мне мельничный жернов свою печальную песню.
«К кому теперь обратишься?» — спросил меня кладбищенский сторож. Я не ответил, а он продолжал: «Без частностей нет целого. Нужно вспомнить детали, а то вообще вряд ли что-нибудь выйдет. И это-то не всегда помогает. Могильные камни — и те, как известно, приходят в упадок. Перво-наперво поройся хорошенько в своей памяти».
Я видел несчастных калек, ковыляющих из города в город. Они в былое время шли даже на членовредительство, лишь бы не попасть в солдаты. Они делали все, чтобы жить в родном городе. А теперь у них остались лишь их костыли.
Никто не приглашал меня на субботу. Я стоял и ждал рядом с синагогой до самого закрытия, пока темнота не спрятала все вокруг. И тогда вспоминал колокольный перезвон сибирских церквей, попа, избивающего солдат до крови, и безумные страсти, разгоравшиеся потом.
Погонщики не вернулись. Городские ворота закрыли на субботу. Накрапывал мелкий дождик. На мельнице я нашел незнакомых людей, разгружавших мешки. На лошадях, впряженных в телеги, блестели капельки пота. Я представился, и меня не прогнали. Знакомые жандармы были тут же, и я снова стал рассказывать им о стычках на японском фронте.
Осень дышала мне в лицо предвестием холодных зимних ветров и долгих скитаний. Я удивлялся тому, что я все еще тут, сижу по вечерам на полированных ступеньках почты среди друзей-жандармов. И я вспомнил цыгана, с которым вместе служил, как он перед отправкой на японский фронт, лежа на своих шмотках, перед всей ротой давал обет. Если уцелеет, значит родные думают о нем — и тогда он сбежит. Даже могилы не вечны. Родные не могут ждать, и он должен подняться на святую гору Арарат. Так надо, он тоже пойдет к исповеди.
Как-то в богадельне меня повстречал старик и спросил:
«Кем будешь, сынок? — и, добродушно ворча, добавил: — Не оставайся здесь ни секунды. Иди в Качинск. Человек должен быть там, где молились его отцы и деды. Там настоящие мудрецы, которые не оставят тебя».
Читать дальше
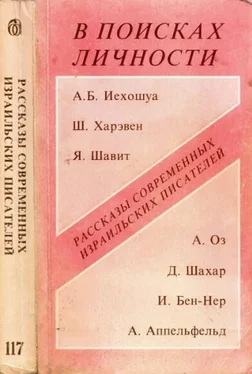
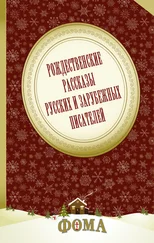
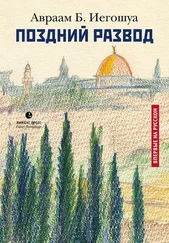





![Авраам Иегошуа - Дружественный огонь [litres]](/books/396016/avraam-iegoshua-druzhestvennyj-ogon-litres-thumb.webp)
![Роман Сенчин - Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей [сборник litres]](/books/436567/roman-senchin-bez-ocheredi-sceny-sovetskoj-zhizni-v-thumb.webp)


