Но он все-таки провожает меня. Бросает школу, беспокойное свое царство, и идет рядом, несет мой портфель, пиджак, потрепанную мою Библию. В его глазах слезы, точно погиб не мой сын, а его. На каждом углу я пытаюсь увильнуть от него — хватит, мол; дальше я пойду один, — но он и слушать не хочет, будто боится оставить меня одного. У подъезда, под синим утренним небом, мы наконец останавливаемся. Стоим, точно две каменные скалы, покрытые белым мхом, а над нами — точно дым — вьются слова утешения, в которые он не верит, а я не слышу.
Наконец он умолкает. Последнее слово замирает на его устах. Я беру свои вещи, пиджак, Библию, портфель, настойчиво прошу его вернуться в школу, но он упирается, точно боится, что я вот-вот снова упаду. Я протягиваю ему руку, он хватает ее, держит крепко и не отпускает, точно я каким-то таинственным образом приобрел вдруг сильную позицию, точно он теперь никогда уже не сможет расстаться со мной.
А я оставляю его у подъезда, вхожу в дом и застаю там какое-то незнакомое освещение, свет будничного утра. Я опускаю жалюзи (он все еще стоит у подъезда), раздеваюсь и иду мыться. Я знаю, ко мне будет подходить сегодня много народу, они будут дотрагиваться до меня, поэтому я долго стою под душем. Стою голый, сильно стучит в висках, а я пытаюсь сообщить о его смерти жене на ломаном английском. Стряхиваю воду, вытираюсь, надеваю свежее белье, достаю из шкафа толстый черный костюм и надеваю его. Опять выглядываю через щели жалюзи — директор все так же стоит у подъезда, погруженный в мысли, отрезанный от всего мира, и тогда я немного прибираю, выключаю телефон, закрываю последние жалюзи, и вдруг, точно кто-то с силой толкнул меня, валюсь на ковер, на котором они спали в ту ночь, и безудержно рыдаю. Потом я встаю, в квартире вроде темнее стало, а у меня болит голова. Слабым голосом зову директора, но его уже нет, он ушел, на улице теперь пусто; пожалуйста, проходите…
А затем ужин на веранде, весенним благоухающим вечером, под сенью дерева — ветви все в цвету. Они сидят все трое, щеки у них порозовели от сна, а я, ужасно уставший, с трясущимися коленками, ставлю перед ними хлеб и воду. Они достают из рюкзаков консервные банки, которые они привезли из своих странствий, и принимаются есть, словно они все еще в пути и сделали привал между двумя стоянками. А ребенок так и сидит в своем белом балахончике, сидит прямо, глазки блестят, болтает без умолку, соревнуется со сверчками в саду.
Сын весь ушел в еду; на него вдруг напал аппетит — он ковыряет в банках, отламывает хлеб, глаза у него влажные, а я тщетно пытаюсь расспросить, над чем же он работает, что именно изучает, какой предмет собирается читать здесь, не привез ли с собой новых вестей. Он посмеивается, пытается что-то объяснить, мямлит, ничего у него не получается. Он бы дал мне почитать, но я все равно ничего не пойму, тем более что все ведь по-английски. Может, все-таки пойму? Вряд ли. Это нечто совершенно новое, нечто связанное с историей и статистикой; уже один подход — целая революция…
Он продолжает есть, борода усыпана крошками, мощную шею нагнул, жует молча, а я вьюсь вокруг него, тянусь к нему, сутки как не смыкал глаз, говорю хрипло, с надрывом, пылающим голосом — о войне этой нескончаемой, о нашей изоляции, об утренних газетах, о том, что ребята в школе слушают плохо, о льющейся крови, о долгих часах в классе, об истории, разваливающейся на наших глазах; а рядом болтает мальчик, по-английски и без умолку, визжит и поет, бьет ножом по пустой консервной банке. Ночь тем временем вызвездила небо, невестка широко, взволнованно смотрит, улыбается мне, не понимает ни полслова, а все-таки слушает напряженно, восторженно кивает головой. Только сын слушает рассеянно, мне знаком этот его отсутствующий взгляд, он думает о чем-то другом, далеком, чужом…
А ночь опускается все ниже, каждый час я включаю приемник и слушаю последние известия; четкий голос диктора нещадно лупит в темноте, а сын ругает там кого-то, кто с ним не согласен, затем встает и начинает ходить по садику. Внук затих, сидит и рисует на огромных листах — ночь, меня, кузнечиков, которых он еще и в глаза не видел. И снова невестка рядом, я ей, видно, нужен все-таки, а английский мой ей нипочем. Она что-то медленно говорит мне, точно я тупоумный школьник, ее весенняя кофточка полуоткрыта, волосы откинуты назад, на лбу черная лента, а сама — ни дать ни взять школьница, того типа, в которую я много, много лет — световых лет — назад мог бы влюбиться и бегать за ней годами — в душе.
Читать дальше
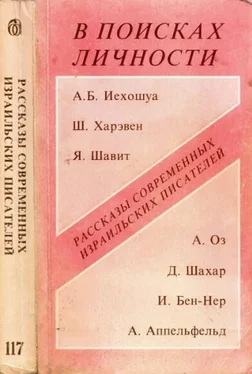
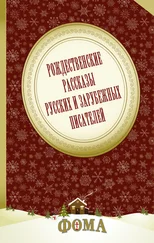
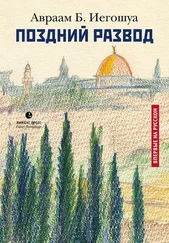





![Авраам Иегошуа - Дружественный огонь [litres]](/books/396016/avraam-iegoshua-druzhestvennyj-ogon-litres-thumb.webp)
![Роман Сенчин - Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей [сборник litres]](/books/436567/roman-senchin-bez-ocheredi-sceny-sovetskoj-zhizni-v-thumb.webp)


