— Вот возьми и поди отдай шить себе костюм.
И он взял, пошел и отдал шить.
В то время, как в их квартале еще сплошь пользовались керосиновыми лампами, Шейндл — так ее звали, и это имя как нельзя более подходило ей [41] Шейндл — красавица ( идиш ).
— провела в доме электрическое освещение, а вслед за тем наш Великий Раввин Ахарон Сегал был вынужден купить радио, электрический утюг и электрическую печку. Так ему никогда и не удалось что-то скопить на черный день. И потому он жил в непреходящем страхе перед будущим.
Если бы не Эфраим, он мог бы гордиться в душе тем, что вырастил сыновей людьми добрыми и благочестивыми. Старший сын, с детства одаренный приятным голосом, женился на девушке из хорошей семьи и уехал в Америку, где приобрел известность как прекрасный кантор. Обе дочери тоже вышли замуж за достойных молодых людей. Один из них был торговым поставщиком, и счастье улыбнулось ему в делах, а другой — выпускником религиозного училища, человеком строгим, знающим, с помощью тестя получившим место преподавателя в сиротском приюте. И если мысли о старшем сыне и обеих дочерях радовали отцовское сердце, то Эфраим причинял ему лишь страдания — чем дальше, тем больше.
2
Еще не родившись на свет, Эфраим не знал покоя, сильно толкался в чреве матери, а при рождении запутался в пуповине и чуть не задохнулся. Первые три года был слабым и болезненным. Нос и горло всегда заложены. Ощущение, что он вот-вот задохнется, и страх перед этим кошмаром сопровождали все его детство. Однажды, когда миновал тяжелый кризис и Эфраим начал выздоравливать, мать усадила его среди подушек, чтобы он мог смотреть в окно. Вечерело, и колесо солнца, спускающегося меж огненных облаков, повисших над иерусалимскими горами, излучало малиновый свет. Пораженный, мальчик не отрываясь глядел на это действо, пока солнце не исчезло и крыши окружающих домов не обозначились во всей своей уродливой наготе. Это запечатлелось в его душе первым ясным воспоминанием, вместе с великой и безотчетной тоской по свету, что проникал из-за небесного предела, из-за гор, из-за неведомых далей. Тоска по красоте извечно связана с отвращением к уродству. Резкое ощущение красок дрожало в нем, вызывая подчас чувство огромного счастья.
Когда ему было шесть лет, он гулял однажды с матерью по весенней улице Яфо. Вся улица была залита солнцем, солнечные лучи отражались от каждого окна. Мать надела белое платье с большими синими цветами и широкополую соломенную шляпу. Он вдруг поднял глаза — и великая любовь к матери захлестнула его. Стало ему радостно, что вот он жив и здоров, что та, которая идет рядом с ним, — его мама, что на улице так много света. Они миновали лавку, где продавались картины, и мать, бегло взглянув на витрину, пошла было дальше, но Эфраим точно прирос к месту… Середину окна занимала большая картина: три лошади на лугу. Две лошади терлись шеями в порыве любви и силы, а третья щипала траву. Те, что нежно льнули друг к дружке, были красновато-коричневые, а третья — синяя. Краски жили своей собственной жизнью и ощущались так непосредственно, что, казалось, стекают с картины и, подобно освежающему напитку, наполняют жаждущий рот.
С тех пор Эфраим что ни день просил:
— Мама, пойдем к лошадям.
Вначале она не понимала, чего он хочет, а когда разобралась, отвергла его просьбу. И тогда Эфраим решил пойти один. Неожиданно для себя он оказался в Старом городе. Огромные камни древних стен угрожающе громоздились вокруг него, множество больших и маленьких арабов толкались и оглушительно кричали.
— Что ты здесь делаешь, черт побери?! — вдруг закричал на него кто-то знакомым голосом.
Он повернулся и увидел доктора Вайнштока, врача из их квартала. Как всегда летом, доктор был в белой английской панаме и белом костюме. Он взял мальчика за руку, и они вместе пошли по крутой, узкой улочке наверх, к пролетке, запряженной парой вороных лошадей. Сидение было обито зеленым плюшем. Кучер — араб в красной феске — потянул вожжи, взмахнул кнутом, и лошади дружно припустили легкой рысью. Временами они охлестывали себя хвостами по ляжкам, их спины блестели как шелк и отражали солнечный свет.
— Что ты искал один в Старом городе? — спросил доктор.
Эфраим был захвачен удовольствием езды, вопрос озадачил его, и он признался:
— Лошадей.
— А-а, — сказал врач. — Наверное, ты хочешь стать кучером…
— Да, — сказал Эфраим, но не потому, что хотел стать кучером, а потому, что почувствовал: такой ответ удовлетворит доктора. Он впервые в жизни ехал в экипаже, и ему чудилось, что они пустились в стремительное плавание. Мимо проносились большие и малые дома, а люди, — взрослые и дети, — казалось, шагают вспять. Это удовольствие, как и вообще все удовольствия на свете — было не долгим. Пролетка остановилась, доктор опустил Эфраима на землю неподалеку от дома и сказал:
Читать дальше
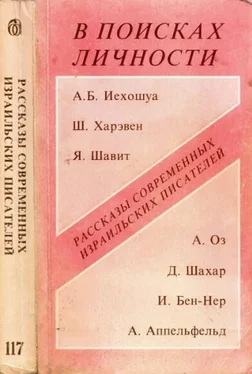
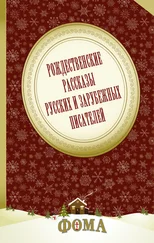
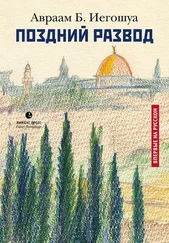





![Авраам Иегошуа - Дружественный огонь [litres]](/books/396016/avraam-iegoshua-druzhestvennyj-ogon-litres-thumb.webp)
![Роман Сенчин - Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей [сборник litres]](/books/436567/roman-senchin-bez-ocheredi-sceny-sovetskoj-zhizni-v-thumb.webp)


