Так повторилось назавтра и на следующий день… День за днем боролся этот душистый запах с привычной Эшхару вонью жженого кизяка да его собственного тела, покамест не пересилило благовоние вонь. На четвертый день заметил Эшхар убегающую прочь женщину. Легко догнал и приволок обратно в шатер. Она глядела без страху. Склоняя к земле, заметил, что по шесть пальцев у нее на каждой руке. Недевственна была.
Сказала, что звать ее Дина, а живет, подобно ему, не в стане и не у отца, да и не знает, кто ей отец. Медленно, осторожно распутала узел грубой веревки, которой уже многие годы стягивал лодыжку, и растерла поврежденное место, потом принесла влажных листьев и приложила их вместо веревки. Он и сам делал такие повязки своим овцам — и, слегка ворча, покорился ее пальцам. Однако не позволил ей остаться в шатре на ночь. В сумерки она тихо встала и ушла к себе.
В ту ночь — в первый и последний раз в жизни — ему приснилась Байта. Стояла над ним, снисходительно улыбаясь, словно говоря, что отпускает ему и дозволяет. Нагнулась, поцеловала в окончательном примирении и — пропала. И тогда он очнулся и горько заплакал.
А Дина опять пришла. Спустя несколько дней глухим своим голосом рассказала, почему не в стане она живет. Сказала, что понесла в прелюбодеянии, и страшно ей вернуться. Показал бы, что муж он ей — жить ей, а нет — смерть ее ждет. Очень спокойно говорила и так же спокойно складывала и разнимала странные, шестипалые свои кисти. Сказал он, пускай, мол, говорит там все, что ей хочется, и она целовала ему руки, счастливая. А еще, бывало, всем телом прижималась сверху и, как шатром, целиком укрывала его своими длинными волосами.
Спросил он как-то: шестипалая-то почему? Ответила: такой, мол, родилась, а отца своего не знает, и по всему этому — нечистая она, смилостивились над нею, что не убили, когда родилась, да только не знает, милость ли это, хотя все так говорят; потому и замуж не выдали, как должно, и лишь один из племени — родственник, а может, просто так говорит — ложился с ней да изливал семя, пока не понесла. Вгляделся Эшхар — и впервые заметил, сколько глубины и страдания в ее глазах — как у всех в семействе Цури во время странствий в пустыне. Уж не последняя ли из них? Игре никто ее не учил. Да и не на чем было.
В другой раз спросил про своих друзей — Авиэля, Яхина, Зэмера. Рассказала, что знала: жив, мол, Зэмер и сыновей народил многих, а Авиэль пал в бою. Он вовсе и не ведал, что была война, и замолчал надолго.
Как стал расти у нее живот, исчезла. Звать не пошел.
Снова двинулись в путь. Одна из разведок, вернувшись, принесла с собой виноградные листья и изюм. Рассказывали про изумительный виноград, чей урожай особенно обилен, и про другой, что, петляя, взбирается на ограду. Потихоньку начали верить, что будет конец пути. Есть родина предков. А на другой раз притащили парни несколько оливковых ветвей, и госпожа Ашлил растрогалась до слез. Схватила эти ветки, прижала к груди. Ну, говорила, довелось, довелось-таки при жизни увидеть оливу. Уж не надеялась на такую милость. Всю жизнь, каждый день молила: только бы увидеть оливу, хотя бы раз; масло-то оливковое в кувшинах видала, ветку оливы — никогда. Теперь и умереть готова, счастливая.
С ребенком на руках вернулась Дина. Эшхар глядел, как она молча сидит и кормит грудью, и на душе у него был покой. Он знал, что с этим покоем вернется жалость, но уже не было сил сопротивляться. Однажды Дина взяла веревку, которой он продолжал стягивать себе лодыжку, и убрала подальше с глаз. Не нужна она уже тебе, Эшхар, сказала. Он осторожно ступил шаг, другой — и убедился, что права. Потом пришла зима, и холод, и свирепые ветры, и она со своим сыном оставалась на ночь в шатре, и он ее больше не отсылал. Раз спросил, вроде бы глумясь: с чудесами-то, мол, как? Все ли еще много чудес в стане? Дина надолго задумалась, затем сказала, что не уверена, но кажется, уже давным-давно, по крайней мере, с тех пор, как помнит себя, никаких чудес не случалось. Просто, идут себе дальше — и только.
Потом она затяжелела от Эшхара и на время ушла в стан, к повитухам, и благополучно разрешилась Иотамом.
* * *
Под конец будто взбесилось время: дни набегали один на другой со все нарастающей быстротой. Двигались ходко, скрадывая расстояния, как никогда прежде. Местность была холмистая, почти вся на виду, и страна, в которую шли, с каждым днем становилась все ближе. Было уже нестерпимо заниматься всем тем, что велела пустыня, шатры для ночевок — и те разбивали через силу. Чаще всего укутывались в шкуры и спали прямо под звездами. Женщины не пряли, мужчины не плели корзин. Кладь подолгу оставалась неразобранной. Кабы не старики, что отмечали время да тщательно блюли праздники, потеряли бы счет дням и месяцам. В небе, в зарослях акации, среди камней уже различали птиц, что живут на ухоженных землях.
Читать дальше
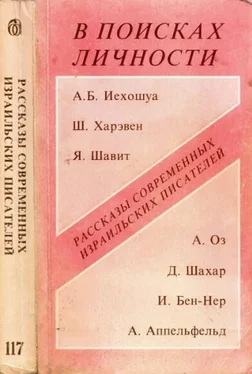
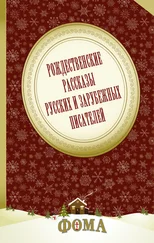
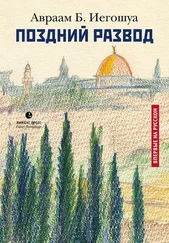





![Авраам Иегошуа - Дружественный огонь [litres]](/books/396016/avraam-iegoshua-druzhestvennyj-ogon-litres-thumb.webp)
![Роман Сенчин - Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей [сборник litres]](/books/436567/roman-senchin-bez-ocheredi-sceny-sovetskoj-zhizni-v-thumb.webp)


