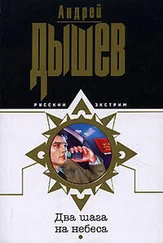— На гуся пойдем? спросила я мужа.
— Паниковский, бросьте гуся, — автоматически отозвался он
— Во-во, — подтвердила я, — он самый. И мы поехали. Белый бок русской печи дышал жаром и гусем. За столом сидели бородатые мужики, впрочем, весьма доброжелательные. Было ощущение, что я попала к толстовцам, и сейчас мы, не противясь злу насилием, уйдем пехом в Канаду. На столе стояли бутылки, я робко присоединила свою, «слезу шешуринскую».
— Лишнее это, — пробасил главный, белобородый, — вот, — и надавил пальцем на крышку бутылки Jagermeister. Я пожала плечами
— Там клюква, — строго сказал второй, у которого борода была цвета французского каштана, — мы трезвенники
— Тогда я пошел домой, — огорчился муж, но его утешили. Гостям можно. За печкой послышалось шуршание фольги и вышел четвертый, но без бороды, одетый, как пастор
— Это у нас Гена, — пояснил Каштановый, — он физик-ядерщик. Он ВСЁ знает, но лучше его не спрашивать
— А, — я покивала головой, — Е=мс квадрат?
— Типа того, но не часто, — ответил «Пастор», — я теперь маркетолог и фрилансер. Бородатые закивали, а «Пастор» сказал
— «ГУСЬ» — и вынес на противне гуся, из которого, шкворча, рвалась на волю гречневая каша. Полчаса было тихо. Попискивали мыши в подполе, дрались на чердаке соседские коты, слышно было, как бубнит массовик-затейник в доме отдыха, в пяти километрах от дома.
— Васильич, — Каштановый скосил глаз на бутылочку, — а махнем? Рождество ж?
— А принципы? — «Пастор» постучал гусиной ножкой по ладони
— А ну их, — сказали бородатые и разлили. Через полчаса лёд тронулся, предварительно растаяв
— Я тебе вот что скажу, — басил седой, — у меня кошка была. И я ее любил, как родную. Как тебя прям! И облобызал мою щеку. В Jagermeister оказался ликер Jagermeister, перешли к нему
— Прикинь? — сказал Седой, — ей было лет 19 или 24, не помню. И я приезжаю в деревню весной — а она всё. Мы с мужем переглянулись. — И, главное — на ковре, в тяжких муках, — Седой изобразил при помощи рук и салфетки мучения животного. Я заплакала.
— Погоди! — сказал он. — Там еще и белка была. И она тоже. Так же прям. На ковре
— Мор прям какой, — сказал муж и отодвинул от себя гусиное крылышко
— Не то слово, — согласился Седой, — главное, пришлось ковер резать. Такой ужас. Каштановый поперхнулся
— Васильич?
— Так и было, — сурово ответил тот. — А когда мы с Раулем мчались на газоне в Нарокко, он мне сказал…
— Васильич, — сказал третий, молчун, — ты все врешь. База была в Торренсе, и Рауля ты не видел!
Про кошку на время забыли.
— А чего вы маркетируете? — вежливо спросила я «Пастора», перекрывая гул голосов 4-го мотострелкового батальона
— Разное, — уклончиво ответил «Пастор» и налил себе и мне минеральной воды без газа. Муж посмотрел на часы
— нам пора с собакой гулять, — сказал он. Нас никто не держал, потому как бородатые, барабаня по полу валенками, добрались уже до Че Гевары. «Пастор», проводив нас до калитки, сказал
— приезжайте. У нас еще две курицы. С яблоками.
— А про кошку — это правда? — меня мучила гибель несчастного зверя
— Да бросьте, какая кошка. Там белки были. Но много.
И мы уехали — гулять с собакой Левкой.
Любушке пять лет. Только ветрянкой отболела, как и все в деревне — подхватила в саду, так и сидит сейчас, подобрав ноги, на бабкиной кровати — вся в зелёной «обсыпи». Бабушка прядет, одним глазом поглядывая в тихо бубнящий телевизор, и тянет-тянет на одной ноте «и зачем было девку зеленым мазать? Все навулушки перепачкаты, а девка чистая лягуха. Моя мамка эту аптеку никогда на ребенка не мазала — травку с сальцем притопит в печке — и чего-ничего… а эти выдумавши…» Ба-а-а-а, — тянет Любушка, — а сказку скажи, ну, б-а-а-а. А то я хуже еще заболею, ба-а-а… Бабушка отирает жирные от ланолина пальцы об передник, крестит рот, зевая, заводит прерванное — «от как… лятели-лятели гуси-лебяди, обронивши перо. Перо оземь мяконько, и легло. И на порог к бабе с дедом. Вот. А у них сЫночка токо один был, пошел на войну, да и сгинул. Такой был ладненькай, такой беленькай, щечки румяные… а враг его и сгубил». Любка согревается от печного бока, от тепла крохотных валенков, валяных дедом и кусающих пятки, и чешется горло под шерстяным бабиным платком, и накрывают комнату крылья огромных птиц — Любушка видала, как ястребы парят над двором, выглядывая кур. И крылья все больше, все отчетливее видны перья, сизые, а с испода светлые, как крапчатые, и даже свет белый — все крылья закрыли, и темно, и страшно, а бабушка, отхлебнув из бутыли клюквенного морса, все тянет — «а пёрышко и на крылечко, и обернулось красной девицей. А у девицы коса до полу, и такой сарафан, весь заморскими цветами расшитай. И она легонько стук-постук в избу — бабенька, дедонька, примите меня, сиротку. Ну, тем какая радость! Уже не знают, где посадить, куда уложить. Такая красота, что ты. Токо у ей одно непонятно — вроде как руки, а на их перья растут. Так оно не мешает ложку-т держать, а перед людями неловко… Любушка почти дремлет, утыкается носом в огромную, с пол-кровати, подушку, одетую в вышитую мережкой наволочку. Ба? А чего она — птица была? Не, — бабушка тянется к мешку за чесаной шерстью, — она навроде птичьей королевишны была… И молвит бабе с дедом — ты, бабенька, и ты, дедонька, не смущайтесь — я как на улицу либо в церкву буду ходить, перья мои как невидимы будут, токо перышко, с которого я выродивши, храните пуще ока свово. Ай, — бабушка встает и, сложенная в пояснице, бредет на кухню, — опара-то подошодши! Все, конец на сёдни тебе. Завтра доскажу, спи, детынька, спи, все облухи твои и пообсохнут… Любушка уже спит всерьез, и только от её дыхания поднимается и опадает на подушку серенькое пёрышко, вылезшее случайно — из подушки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу