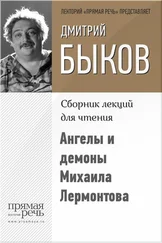Но Китай её тоже принимал лишь отчасти: со своими советскими навыками, российским менталитетом и российской же привычкой к интеллектуальному труду она там чувствовала себя не совсем в своей тарелке. Чистое челночничество, а равно и лингвистическое обеспечение этого челночничества не вызывали у неё восторга. Учиться ей было незачем и не на что (и на что жить в процессе обучения?), культуру своего исконного народа она познала достаточно, и, наконец, поздно было ей учиться в двадцать пять лет. Тут у неё случился надрывный и очень тяжёлый роман с одним ресторанным певцом, которого она возила в Китай под экзотическим именем и с легендой поп-идола. Певец в Китае относился к ней очень хорошо, поскольку она помогала ему заключать контракты, а в Москве оказался женат, хоть и неформально, на девочке из эстрадного кордебалета. Он накормил Аньку в ресторане и дал решительный отлуп.
Было здесь несколько людей, беззаветно в неё влюблённых, – но не было среди всех нас (проговорился, да, и я был в их числе) ни одного, кто согласился бы терпеть полугодовые отлучки и беспрерывные кочевья любимой женщины. Все мы жаждем стабильности, мужчины в особенности. Анька и сама понимала, что хватит ей ездить, тем более что челночный бизнес несколько пошёл на спад. Но поездки оставались единственным средством заработать хоть что-то, поскольку Анькины однокурсницы в большинстве своём давно сосали лапу. Филологи были без надобности, и знаменитый академгородок, которым столица советской Сибири гордится с середины пятидесятых, деградировал стремительно. Анькин программист со своей избранницей, снова брюхатой (Аньке во время приездов она казалась вечно беременной), выехал в Германию. Комната осталась Аньке.
Но она была тогда одержима идеей попасть в какой-нибудь китайский монастырь и там, уйдя от коммерции и любви, в которых она не добыла счастья, попытаться найти его в медитации, в чистой науке и в постижении интеллектуальных сокровищ Поднебесной. В монастырь в Китае попасть сегодня ничуть не легче, чем в России, и вообще всё это осталось на уровне беспочвенных мечтаний – к тому же представить Аньку в монастыре вообще очень сложно, поскольку её натура жаждала деятельности постоянно.
Ездить в Китай она в прошлом году бросила. Правда, он продолжает её манить, и разговоры идут в основном о нём, тем более что все попытки трудоустройства на родной почве покамест для Аньки заканчиваются ничем. Её попытки преподавать китайский не приносят денег, переводчики с китайского никому не нужны, челночные поездки уже вот где, и последний пока крупный заработок принесли ей лекции по китайскому менталитету в какой-то из гэбэшных школ. Делать какие-либо прогнозы относительно её судьбы я не берусь, учитывая её глубокое разочарование и в современном Китае, и в современной России. Парадокс кентавра в том, что вместо идеально удобного варианта, при котором он чувствовал бы себя на обеих родинах своим, он на обеих чувствует себя чужим, и этот перманентный дискомфорт способен с ума свести, закончиться нормальным раздвоением личности.
Правда, есть один бизнесмен, которого Анька возле себя терпит, но жить к нему не переезжает. Она говорит, что домовой не любит её. Есть такое выражение, применяемое к бродягам и вообще людям беспокойным. Недавно до меня дошёл слух, что она не выдержала и снова собирается в Китай. Сунь, с которым они было насмерть рассорились, открыл какое-то новое дело, и не исключено, что ему опять понадобятся переводчики – на этот раз с французского.
2.
Второй кентавр был и остаётся моим ближайшим другом, вожатым и педагогом Божьей милостью, из поволжских немцев. Никакой немецкой самоидентификации у этого чернобрового и горбоносого великана сроду не было. Он вырос в Караганде, городе ссыльных, и вся немецкость Славки сводилась к тому, что в детстве он выучился от своей бабушки петь «О Танненбаум, о Танненбаум!». Он даже сделал русский текст этой песенки, поскольку с детства писал стихи. Немцами были все в их семье, но Славка убеждён, что в какой-то момент бабушка сходила налево, поскольку более выраженного еврея, чем Славка, мне не встречалось. Большой рост и большое брюхо, многоречивая громогласность, неистребимая жовиальность, семейственное чадолюбие, ненависть к государственной службе, перманентное инакомыслие и кулинарные способности – всё, чем отличается правильный еврейский мужчина, плюс очень кустистые брови, тут наличествовало. Славка родился учить детей и работать с детьми. Он обожал их и плавал в их ответном обожании. В детстве, попав в один из главных и любимейших пионерлагерей страны, лагерь, которому позволялся относительный либерализм и даже эксперименты, – он понял, что должен быть там, и после армии, чудом перенесённой, действительно поселился там.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу