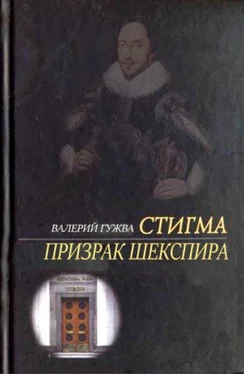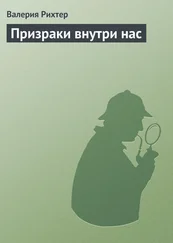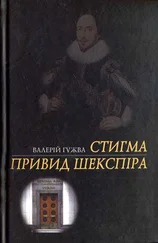Петриченко-Черный вернулся в Москву, искал, где бы приложить силу и талант, несколько лет ассистировал своему сверстнику, молодой театр которого становился популярным, а потом и модным в столице, где, несмотря на пристальный глаз культуртрегеров с погонами на рубашках под гражданскими пиджаками размножался вирус непокорного новаторства. Коллега дал Александру возможность выйти на публику со своей постановкой. Петриченко-Черный выбрал Аристофана, и не беспроигрышную «Лисистрату», а пьесу «Лягушки».
Работал он запоем, толерантно оттачивал и осовременивал античный текст так, чтобы он звучал злободневно. Пресса, зубастая московская пресса, постановку заметила, даже одиозная «Комсомольская правда» отдала немного места на полосе, чтобы, с одной стороны, похвалить режиссера и актеров, а с другой — выразить минимум сомнения в подлинности текстов, особенно провозглашенных хором. Хорошо, что пасквилем на русскую действительность не окрестили. Главный режиссер имел продолжительный разговор с Александром, потребовал убрать, как он выразился, излишний радикализм, потому что это ставит под удар весь репертуар, если не сам театр, который с таким трудом добывал себе место под солнцем среди других, всемирно известных, очень известных и нынешних успешных и модных. Петриченко-Черный отстаивал свое видение — пожалуй, опрометчиво, потому что после нескольких спектаклей «Лягушки» сошли с репертуара, хотя зал пустой не был.
Александру на то время шел четвертый десяток, роль старшего куда пошлют была унизительной, он в конечном счете поругался с главным и подал заявление.
Судьба, однако, была благосклонна к нему, потому что именно в это время нашел его в Москве бывший, еще институтский, однокашник, на то время художественный руководитель известного харьковского драматического театра, и пригласил к себе — обновить репертуар, сформировать афишу, получить, наконец, звание на родине. В конце концов Петриченко согласился и с головой ушел в работу. Однокурсник не слукавил, дал коллеге карт-бланш по репертуару, взял на себя все переговоры с чиновниками отдела культуры, с областным идеологом, ценителем талантов актрис.
Работалось Александру комфортно, спектакли, поставленные им, были замечены не только в старой, но и в новой столице, художественный руководитель, Тимур Андреевич Бреза, пробил коллеге звание заслуженного. Именно здесь, в Харькове, Петриченко-Черный женился на актрисе своего театра.
Точнее говоря, в конце концов она дала согласие на брак. Их роман мог тянуться бесконечно долго, хотя Александра не устраивала роль любовника красивой и независимой женщины, которая приходила в его просторную квартиру на несколько часов, несколько дней, а потом оставляла его холостяцкую территорию и возвращалась в свою коммуналку, где ей досталась от покойных родителей огромная, метров сорока, комната, разделенная на две половины утлой перегородкой, и две конфорки одной из трех газовых плит на кухне-вокзале. Но он стоически ждал, не форсируя матримониальные события.
В отличие от Александра, Тамара Томовна уже побывала под венцом. Начинающая актриса не устояла перед чарами тогдашнего премьера, красавца Вахтанга Ерастова, сорокалетнего брюнета, который уже играл Федю Протасова, но мог и Чацкого. Когда Ерастов увидел, что кавалерийской атакой девичьи стены не одолеть, он предложил вдвое младшей Тамаре руку и сердце. Первый год молодожены прожили счастливо — по крайней мере так это выглядело со стороны, а потом все больше стали ощущаться почти незаметные подземные толчки, предвещавшие приближение серьезного катаклизма. Сначала до мелочей внимательный к юной жене, даже предупредительный, нежный в постели, потому что к своему большому удивлению взял ее целомудренной, Вахтанг достаточно быстро превращался в сибарита, требовал не понятного Тамаре, какого-то восточного внимания к своей персоне (в жилах Ерастова бурлила доля грузинской крови), мог бросить почти в лицо непостиранные носки, и хотя потом бурно извинялся, не мог не посеять в душе юной женщины зерен если не разочарования в браке, то какой-то бессознательной настороженности.
Она, выходя замуж, не обращала внимания на репутацию Вахтанга как повесы, волокиты, ей, молодой актрисе, сцена виделась местом священнодействия, а достаточно откровенные разговоры и слухи о том или ином прелюбодеянии считала плодом нездоровой фантазии пожилых актрис, костюмерш, гримёрш, и когда одна из актрис, Басалаева, тридцатилетняя холеная дамочка, жена высокого городского чиновника, с загадочной улыбкой сказала Тамаре в гримуборной, расспросив перед тем, как ей живется в замужестве: «Ну, да… ну твой Вахтанг — боец», она не сразу поняла смысл этой фразы, пропустила ее мимо ушей, подумав, что речь идет о смелом выступлении Ерастова на собрании, где мало кто решался не только на критику — хотя бы на замечание в адрес то ли дирекции, то ли режиссуры.
Читать дальше