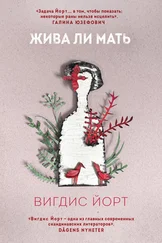«Может, теперь мы поймем, – предположил Борд, – почему он был таким».
Если надежды матери сбудутся, то сбудется и самый жуткий кошмар Астрид и Осы. Потому что ни мне, ни Борду они не верили и мы с Бордом им надоели, особенно я, старшая сестра, которой вечно уделялось столько внимания и которую теперь еще и жалеть придется.
И Астрид, и, даже сильнее, Оса, на протяжении всего детства были отчаянно и безответно влюблены в мать, но та безответно любила меня, пока не влюбилась в Рольфа Сандберга. Однажды Оса обронила, что, возможно, она выросла бы совсем другой, если бы мать каждый вечер сидела бы у ее кровати и болтала с ней, как она болтала со мной. Просто Оса не знала, что именно мать говорила мне тогда, сидя у моей кровати, и не знала, почему сидит именно со мной.
Оса ревновала мать ко мне, да и не удивительно: много лет мать смотрела только на меня и за мной одной следила. Где Бергльот? Бергльот еще не пришла?
Любовь Астрид к матери была несколько несчастной. Оса же любила мать отчаянно и безответно. По окончании девятого класса Оса гордо принесла домой дневник с одними «пятерками», а по норвежскому ее даже отдельно похвалили. Она рвалась показать дневник матери, но та взглянула на него лишь мельком: она была занята – бранила меня за то, что я вернулась домой на пятнадцать минут позже, да я вообще представляю, какую боль причинило матери это пятнадцатиминутное ожидание? Нет, этого я не представляла, как и то, какую боль причинил Осе мимолетный взгляд, брошенный матерью на ее дневник. Я помню этот момент, грустные глаза Осы, ужасное разочарование на лице моей младшей сестренки. Оса едва не плакала. Вовсе не удивительно, что она ненавидела меня, старшую сестру, которая занимала столько места в нашем доме, столько места в материнском сердце. Но теперь мать наконец-то принадлежит Осе, Осе так не хватало ее все эти годы, и теперь мать наконец принадлежит ей. Оса и Астрид заполучили мать много лет назад, все эти годы мать была только их. Астрид укоряла Борда за то, что тот в почти шестидесятилетнем возрасте переживал из-за детской травмы, нанесенной ему отцом, но не понимала, что и Оса, и сама она тоже застряли в детстве, бедные обиженные младшие сестренки, наконец добившиеся родительского внимания. Я надеялась, что они поймут и осознают: мать чувствовала ответственность. Ее привязанность ко мне объяснялась ответственностью, мать была взрослой, а я – ребенком. Хотя мать и вела себя по-детски, хотя отец и отнял у нее взрослость, она была матерью, а мы детьми.
Я надеялась, что Астрид с Осой поймут: это не я причинила им боль, а мать, действовавшая бездумно и находившаяся в плену собственного страха. Но этого они, похоже, не видели и не осознавали. По словам Астрид и Осы выходило, что мать с отцом были чудесными родителями, а мы с Бордом – скверными, неблагодарными детьми.
Борд надеялся получить объяснение, почему отец был именно таким. Если бы это бъяснение существовало, ему было бы проще смириться с поведением отца.
«Ой батюшки! – воскликнула Клара. – У него наверняка есть и другие дети!»
Сёрен надеялся, что у моего отца имеется счет в швейцарском банке, Тале надеялась, что в письме отец во всем признается, а Эббе было все равно, но она считала, что мне следует приготовиться к худшему. Ларс же сказал, что мне не следует рассчитывать на что-либо, потому что тогда меня ждет разочарование. «Тебе от них никогда не прилетало ничего хорошего».
Я прибралась в доме и приготовилась к худшему. Я запустила посудомоечную машину и представила, как вхожу в дом на Бротевейен, где не бывала уже пятнадцать лет. Где мы будем сидеть? В отцовском кабинете? И кто тогда займет его кресло, кресло вожака? Мать? А конверт – его кто откроет? Тоже мать? Я представила конверт на внушительном отцовском – нет, теперь материнском – письменном столе и знакомый мужской почерк на конверте: «Открыть в присутствии всех моих детей». И его дети усядутся на зеленый кожаный диван, который прежде стоял в гостиной в квартире на Скаус-вей и который обосновался у отца в кабинете, когда наша семья переехала в этот роскошный дом на Бротевейен. Если, конечно, за последние пятнадцать лет диван не выбросили – а это вполне возможно. Мать в кресле начальника за письменным столом красного дерева, и мы – брат и сестры – на зеленом диване перед камином в отцовском кабинете. Я достала посуду из посудомойки и развесила постиранное белье. Если бы речь шла обо мне, если бы он хотел сказать что-то мне лично, он мне и адресовал бы конверт. «Передать Бергльот после моей смерти». Но хранить в сейфе письмо с признанием на тот случай, если он вдруг свалится с лестницы, – совсем не в духе отца. Нет, это на него не похоже, а уж я в свое время довольно хорошо его изучила, правда, по-своему. Впрочем, на что мне вообще это признание, спустя столько лет неверия и отрицания? Разве что для того, чтобы воскликнуть: ага, вот видите! Отец был не такой дурак и понимал, что посмертное признание не искупит многолетнего отрицания. И если уж он столько лет все отрицал, то будет отрицать и после смерти, в Бога он не верил. «Но, возможно, – предположила Тале, – он захотел всем рассказать, что ты не чокнутая врунья». А что, если это и впрямь так? Вдруг он хотел поддержать меня после смерти? Нет, едва ли, скорее всего, в конверте документы, составленные после продажи дома в Италии.
Читать дальше
![Вигдис Йорт Наследство [litres] обложка книги](/books/398675/vigdis-jort-nasledstvo-litres-cover.webp)



![Маргарита Блинова - Война за ведьмино наследство [litres]](/books/392823/margarita-blinova-vojna-za-vedmino-nasledstvo-li-thumb.webp)
![Вигдис Йорт - Песня учителя [litres]](/books/393827/vigdis-jort-pesnya-uchitelya-litres-thumb.webp)
![Елена Счастная - Жена в наследство. Книга 1 [litres]](/books/412324/elena-schastnaya-zhena-v-nasledstvo-kniga-1-litres-thumb.webp)
![Елена Арсеньева - Наследство колдуна [litres]](/books/427623/elena-arseneva-nasledstvo-kolduna-litres-thumb.webp)
![Ольга Ярошинская - Ведьма по наследству [litres]](/books/429176/olga-yaroshinskaya-vedma-po-nasledstvu-litres-thumb.webp)
![Екатерина Соболь - Опасное наследство [litres]](/books/438707/ekaterina-sobol-opasnoe-nasledstvo-litres-thumb.webp)