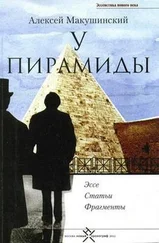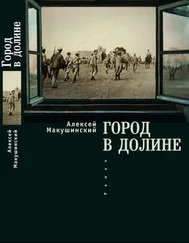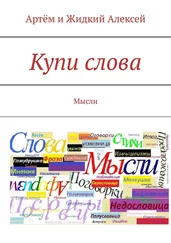Пока иллюзия работает, пока надежда манит и вера влечет, человек может жить. Все идет своим ходом, колесики, вновь скажем, крутятся, винтики, опять скажем, вертятся. Иллюзия тоже есть атрибут родовой, роевой жизни. Она и нужна для продолжения рода, развития роя. Наоборот, личность начинается с прозрения, с понимания иллюзорности иллюзий. Философия, процитирую еще раз Дидро, начинается с неверия. Неверующий, ни на что не надеющийся, или, как его называет Камю, абсурдный человек, то есть человек, способный выдержать абсурдность мира, не дающий себя обмануть, это прежде всего человек ясного ума, трезвый среди пьяных. И здесь не могу не привести любимую цитату из «Исповеди» Толстого: «Можно жить только, покуда пьян жизнью; а как протрезвишься, то нельзя не видеть, что все это – только обман, и глупый обман!» Вообще, за что мы любим таких людей, как Шопенгауэр, Толстой, Ницше, Камю (при всех различиях между ними)? За то, что они видели этот огромный обман жизни, эту великую ложь бытия – и не давали себя облапошить. И вот как жить протрезвившемуся человеку, человеку без иллюзий и без надежды? Собственно, весь «Миф о Сизифе» есть не что иное, как попытка ответить на этот вопрос. Вкратце, ответов – три. Первый: никак. Жить нельзя никак, остается только самоубийство. Книга ведь и начинается с этой темы, темы самоубийства (тот, кто это однажды прочел, никогда уже, наверное, не забудет). Процитирую эти знаменитые слова: «Есть лишь одна по-настоящему серьезная философская проблема – проблема самоубийства. Решить, стоит или не стоит жизнь того, чтобы ее прожить, значит ответить на фундаментальный вопрос философии. Все остальное – имеет ли мир три измерения, руководствуется ли разум девятью или двенадцатью категориями, – второстепенно (букв.: приходит во вторую очередь). Все это игры; прежде нужно ответить». И в самом деле, двенадцать категориев подождут; а жить мне или не жить, я должен решить сейчас. Двенадцать категорий и три измерения нужны, или не нужны, потом, когда решен вопрос, жить мне или не жить. Двенадцать категорий нужны, в сущности, другим; мне, страдающему, ищущему, несчастному – или, наоборот, счастливому человеку, дела нет ни до каких двенадцати категорий. Да пусть их будет хоть сто тридцать пять. Двенадцать категорий нужны для университетской карьеры, научных публикаций и всей прочей пошлости… Замечательно, кстати, что Жак и Раиса Маритен начинают, в Ботаническом саду, с того же вопроса о самоубийстве; Камю, когда писал своего «Сизифа», знать об этом, скорее всего, не мог: «Великие дружбы», где Раиса рассказала об их юношеской провиденциальной прогулке, вышли, как я писал уже, в свет в 1941-м, затем (вторая часть) в 1944 году в Нью-Йорке. Выводы и решения, к которым они, в итоге, приходят, прямо противоположны, конечно, выводам и решениям Камю. Эти маритеновские решения (обращение к Богу, к Блуа и Фоме Аквинскому) – частный случай второго ответа, отвергаемого Камю, как и первый. Первый – самоубийство физическое, второй – философское. Это относится не только к «экзистенциальным философам» (Кьеркегору и Шестову), по крайней мере исходящим из абсурдности, бессмысленности и не-знаковости мира, чтобы потом преодолеть (и предать) ее своим «скачком веры», но вообще ко всем верующим, неважно во что, верующим, которые, как правило, тут же забывают об абсурде и бессмысленности бытия, стоит им «обратиться» в свою веру (неважно, еще раз, какую… католическую или коммунистическую). Камю называет это «смертельной уверткой», l’esquive mortelle. Сердцевина веры – надежда (так думал, кстати сказать, и Пеги, с той разницей, что он-то надежду не отвергал, наоборот – превозносил, прославлял). «Надежда на жизнь иную, которую требуется „заслужить ” , либо уловки тех, кто живет не для самой жизни, а ради какой-нибудь великой идеи, превосходящей и возвышающей жизнь, наделяющей ее смыслом и предающей ее».
Остается третий ответ (о котором написаны десятки книг, сотни статей, так что я сосредоточусь только на одном, для меня самом важном, мотиве). Ответ в том, очень грубо говоря, чтобы удержаться на позиции абсурда, не закрывая глаза на бессмысленность, но и не соглашаясь с ней. То есть в том, чтобы удержаться на позиции «бунтующего человека»: «зная об абсурдности судьбы, можно жить ею только в том случае, если абсурд все время перед глазами, очевиден для сознания… Упразднить сознательный бунт значит обойти проблему. Тема перманентной революции переносится, таким образом, в индивидуальный опыт. Жить – значит пробуждать к жизни абсурд. Пробуждать его к жизни – значит не отрывать от него взора… Бунт есть постоянная данность человека самому себе. Это не устремление, ведь бунт лишен надежды». То есть это не бунт – ради чего-то, ради достижения какой-то цели, какого-то более или менее светлого будущего (будущего нет, все иллюзия и обман), но это бунт в настоящем, вот сейчас, как постоянная позиция. Абсурд только тогда абсурд, когда мы не соглашаемся с ним. Перманентный бунт и позволяет нам удержаться на этой позиции несогласия. И вот парадоксальным образом оказывается, что в этой позиции сознательного и постоянного бунта можно жить. Почему? Ключевым мне представляется здесь слово «сознательный», слово «сознание». В огромной литературе о Камю на это не обратили достаточного внимания; а это чуть ли не самое главное. Все говорят об абсурде и бунте; правильно делают; но это именно осознанный абсурд, сознательный бунт; понятие сознания должно быть поставлено рядом с двумя другими, образуя триаду основных понятий «Мифа о Сизифе»: абсурд, бунт – и сознание.
Читать дальше
![Алексей Макушинский Предместья мысли [Философическая прогулка] [litres] обложка книги](/books/398596/aleksej-makushinskij-predmestya-mysli-filosofichesk-cover.webp)