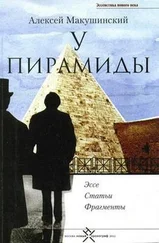Уже хочется говорить о других вещах, других людях, более близких автору… Но все-таки не могу не привести еще одной цитаты из письма Лидии к Евгении, по-прежнему, Герцык, из Берлина, весной 1923 года (переписка в те ранние годы еще была возможна, потом начала затухать, затихать), в ответ на ее, Евгении Герцык, рассуждения о «христианском конце земли», которое она чувствует во всем и навстречу которому радостно устремляется душа ее, не отвергая, впрочем, «языческого начала своего». «Твое последнее письмо мне ужасно близко, – пишет Лидия. – Все оно говорит о конце, о радости конца. А во мне чувство это так заострилось именно в последнее время, что я с каким-то недоумением слушаю людей, говорящих о будущих судьбах Европы, России, о каких-то перспективах истории, культуры и т. д. Когда сидишь на вокзале и ждешь 3-го звонка, можно ли садиться писать письмо, распаковывать чемодан, заказывать обед? И, видя, как люди вокруг делают это, не замечая или не желая замечать близости сигнала к отходу, – я с глубокой жалостью смотрю на них и говорю: „Поздно, поздно!”». О будущих судьбах России и Европы говорили вокруг нее многие; сам Бердяев как раз писал тогда «Новое средневековье», где об этих судьбах речь идет постоянно. Но и ему, конечно, было в высшей степени свойственно это, как он сам выражался в «Самопознании», «эсхатологическое чувство, чувство приближающейся катастрофы и конца света». Эсхатология, как известно, стоит в центре всей его мысли. «Активно-творческий эсхатологизм…» Нам это в молодости нравилось – Тихону, мне, табачному дыму в коммунальной комнате, Никитскому бульвару, Пречистенскому бульвару. Это нравилось, потому что освобождало. Есть вечная правда революционного разрыва действительности, прорыва сквозь данность, цельность, плотность, тотальность. «Подобно Шатобриану, я ухожу из каждого мгновения жизни». Подобно Бердяеву, и я ухожу из каждого мгновения жизни – только, видимо, не туда, не в ту сторону, куда он уходил. Я ухожу, может быть, в это же самое мгновение – но увиденное, но пережитое в его подлинности, его абсолютности, в настоящее здесь и сейчас, от которого жизнь нас так мучительно отделяет и отторгает. Любое данное мгновение, пережитое в его полноте (или его «пустоте») – уже есть конец «света», понятого как царство неподлинности, как империя отчуждения, как господство «объективации». Любое данное мгновение (в его полноте и его пустоте) есть прорыв к субъективности, к свободе, к экзистенциальному ядру личности (которое одно только и способно на встречу с другим). «Последовательное требование персонализма, додуманное до конца, есть требование конца мира и истории, не пассивное ожидание этого конца в страхе и ужасе, а активное, творческое его уготовление. Это есть радикальное изменение направления сознания, освобождение от иллюзий сознания, принявших форму объективных реальностей». О, мы хотели этого радикального изменения направления сознания (даже тройное «ния» нас не отпугивало), этого освобождения от иллюзий, заодно и от объективных реальностей (что бы сие ни значило). Мы только думали (очень скоро начали думать; по крайней мере, я начал; за Тихона и табачный дым не ручаюсь), что конец истории, и тем более смысл истории, и даже сама история здесь ни при чем. Изменить направление сознания – в нашей власти, моей и твоей; усилить сознание и повысить степень сознательности – наша жизненная, пожизненная задача; освобождение от иллюзий происходит всегда и сейчас, вот в эту минуту. Освобождение от иллюзий есть освобождение от мифов. «Конец истории» такой же миф, как и «смысл истории». Это мифы связанные, родственные, так что, со своей точки зрения, совершенно прав Бердяев, говоря, что лишь конец истории придает ей смысл, иначе-де это «дурная» бесконечность, кошмар истории, ад на земле. Христианская мифология и все ее секулярные варианты, все тоталитарные секты, из нее вылезшие и с нею боровшиеся, стремились, как известно, к концу истории, писали о нем на всех своих знаменах, плакатах, приносили ему миллионы, и еще миллионы, и еще миллионы человеческих жертв, в общем, «уготовляли» его гораздо более «активно», чем тот же, к примеру, Бердяев, просто сидевший в Кламаре, ходивший в Мёдон к Маритенам. Для них тоже всегда звенел третий звонок, финал истории был где-то рядом, за углом, за последней преградой. Еще одно сражение выиграть, уничтожить кулаков, отправить в газ всех евреев – и дело в шляпе. Бердяеву, увы, тоже грезилась какая-то последняя битва, последний и, простите, решительный бой. «Предстоит суровая борьба, требующая жертв и страданий. Другого пути нет. Царство Божие не достигается одним созерцанием». Коммунизм, говорил дорогой Никита Сергеич, наступит в 1980 году. В 1980 году я шел вместе с Тихоном по Никитскому, Пречистенскому или Тверскому бульвару, по Сивцеву Вражку, Арбату Старому, Новому, рассуждая об «эсхатологизме». В котором теперь, спустя вечность, вижу тот же танатос, ту же ненависть к жизни, влечение к смерти… И я вовсе не думаю, что конец уже близок. Наоборот, я думаю, что мы где-то в самом начале истории. Человечество вышло из пещеры позавчера и слезло с дерева два дня назад. Пласт первобытной архаики в сознании, да и в бессознательном, огромен, плотен, густ, груб. Все, что способствует его усилению, его уплотнению, опасно и вредно. Полезно все, что способствует его преодолению, избавлению от всемирных сказок, вселенских легенд.
Читать дальше
![Алексей Макушинский Предместья мысли [Философическая прогулка] [litres] обложка книги](/books/398596/aleksej-makushinskij-predmestya-mysli-filosofichesk-cover.webp)