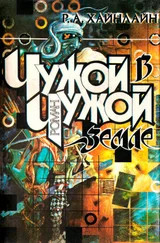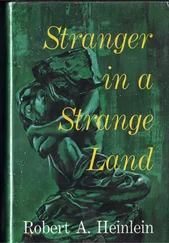— Когда-то Генри был боксером. Вы знали об этом?
Нет, я не знала.
Генри двигался довольно профессионально, но парни смеялись над ним. Для разминки он несколько раз ударил по воздуху. Потом ударил парень. Генри упал. Рухнул как подкошенный. У парня оказался кастет.
Когда Генри упал, Кремер бросился к нему. Генри лежал неподвижно, с закрытыми глазами. Над левым виском выступила кровь. Кремер решил, что Генри только потерял сознание. На самом деле он был уже мертв. Ребята стояли вокруг. Вдруг кто-то из них бросился бежать, за ним остальные. Один крикнул Кремеру, чтобы тот держал язык за зубами, не то и ему конец. Из пивной вышли люди и поинтересовались, что случилось. Кремер попросил вызвать врача и полицию. Шляпу он все еще держал в руках. К этому моменту Кремер уже догадался, что Генри убит. После допроса Кремера отпустили домой. На следующее утро полиция доставила его с работы в участок. Тех ребят уже собрали туда для опознания. Парень, ударивший Генри, плакал. Ему было семнадцать лет. Большинство из ребят оказались несовершеннолетними, ни одного старше двадцати. Потом Кремера отпустили. Полицейский, который провожал его, спросил, почему он не вмешался. Кремер ответил, что все произошло слишком быстро. Генри улыбался, собираясь драться с парнем. Из пивной он даже выходил со скучающим видом, а он, Кремер, и не верил всерьез, что будет драка.
— Теперь, конечно, я корю себя, — сказал Кремер. — Но поверьте, я не виноват. Что я мог поделать?
— Да, конечно, — сказала я.
Он посмотрел на меня с надеждой, будто я и впрямь могла снять с него вину. Вину, которую он сам внушил себе и которую ему теперь трудно будет снять с себя.
Я молчала, поэтому он начал крутить в руках бокал. Глядя себе на руки, Кремер пробормотал:
— Большое несчастье. Это и для меня большое несчастье.
Я кивнула. О похоронах он еще ничего не знал. Полиция пока не разрешила забрать тело. Это могло затянуться еще на несколько недель.
Когда мы прощались, Кремер спросил, нельзя ли нам еще раз увидеться. Ведь мы потеряли общего друга. Вид у него был жалкий.
— Нам это не поможет, — мягко ответила я.
И ушла. Я спешила, опасаясь, что Кремер догонит меня. Я так торопилась, что задохнулась. Мне это бегство самой показалось нелепым.
В следующие дни я часто думала о Генри. Мои мысли постоянно возвращались к нему. Я размышляла, каким он был, но воспоминания оставались смутными, расплывчатыми, мысли вязкими, несобранными.
Работала я как прежде, только дома стала задумчивой.
В газетах никаких сообщений о Генри не появилось. Впрочем, я их и не ожидала. Дело закрыли, выяснять было нечего.
Похороны состоялись месяц спустя, в середине мая. У меня не было желания идти на них, но все же я пошла. Я чувствовала себя в последнее время плоховато, подавленно, однако жалела не столько Генри, сколько саму себя. Мне казалось, будто меня бросили, предали. Нужно было приучаться жить совсем одной.
В конце мая в квартиру Генри въехал какой-то старик. У меня было странное чувство, когда впервые после смерти Генри я услышала, как открывают его дверь. Остановившись, я увидела, что дверь распахнулась и из нее вышел пожилой человек.
У нового жильца хронический катар. Когда он проходит по коридору, слышится его сухой, отрывистый кашель. Он дружит с пожилой дамой, живущей на нашем же этаже. Они часто выходят вместе из дому. Наверное, на кладбище. Они всегда берут с собой полиэтиленовые сумки и маленькую лейку.
Теперь, спустя полгода после похорон Генри, я уже привыкла жить одна. Дела мои идут хорошо или по крайней мере неплохо. Мне не на что жаловаться. Лет через пять я буду старшим врачом. Шеф похлопочет об этом, он сам намекнул. Когда-нибудь мне все же придется пойти к нему в гости, и, возможно, визит будет приятным. Я испытываю к нему странное, почти непонятное расположение. Многие в клинике шефа терпеть не могут. Его считают догматиком, человеком высокомерным и циничным. Иногда он ведет себя так и по отношению ко мне. По-моему, шефу нравится вызывать к себе неприязнь. Это упрощает ему множество решений. Надеюсь, между нами сохранится необходимая дистанция и он не впадет в сентиментальность, не будет рассказывать мне о своих проблемах. Ничего не хочу о них знать.
Работой я, в общем, довольна. Хотя она мне не очень по душе. Работа для меня тем утомительнее, чем больше в ней однообразия. Порою мне не хватает в ней трудностей и напряжения, порою — удовольствия. Но ближайшие двадцать лет я с ней справлюсь.
Читать дальше







![Роберт Хайнлайн - Чужак в чужой стране [= Чужой в чужой земле, Пришелец в земле чужой, Чужак в стране чужой, Чужак в чужом краю, Чужой в стране чужих]](/books/306957/robert-hajnlajn-chuzhak-v-chuzhoj-strane-chuzhoj-v-chu-thumb.webp)