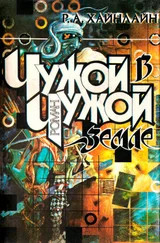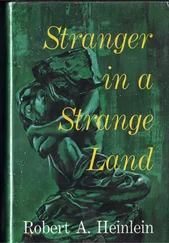Первый ребенок был не ко времени. Мы с Хиннером учились, и у нас хватало других забот. Второго ребенка я не хотела сама. Я знала, что не останусь с Хиннером. Точнее, чувствовала это — так инстинктивно чувствуешь опасность задолго до того, как она становится реальной. Мы не подходили друг другу. Собственно, не было ни скандалов, ни сцен. Просто мы не подходили друг другу. Зачем тогда ребенок? Хиннер пришел ко мне в больницу испуганный. Я его ни о чем не предупредила, и он, вероятно, догадывался, что я собираюсь бросить его. Хиннер не упрекал меня. Он был только ужасно испуган. Мне было жаль его, но ведь это не причина для того, чтобы рожать ребенка.
Два аборта совершенно измучили меня физически. Я смертельно устала и хотела только покоя.
Я была в отчаянии, хотя и не смогла бы объяснить отчего. Меня изводила тупая боль в затылке, которая мешала спать. Я не мучилась чувством вины. Меня ничего не связывало с тем, что во мне зарождалось, поэтому не было и страха потери. Отчаяние шло, вероятно, просто от физической слабости. У меня не было ничего общего с этими детьми. Я оставалась непричастной. Это происходило против моего желания и против моей воли. Я чувствовала себя лишь полостью, вынашивающей эмбрион. Он пользовался мной. Я не хотела ребенка, а он тем не менее рос во мне. Меня ни о чем не спрашивали, со мной не считались, я служила только объектом. Когда Хиннер шептал мне в ухо, стонал, клялся в любви, он решал за меня, что будет со мной, с моим телом, с моей дальнейшей жизнью. Чудовищное покушение на мое будущее, на мою свободу. Мне нравилось спать с Хиннером, тут у нас было, как говорится, все в порядке. Проблема состояла не в этом, хотя Хиннер почему-то подумал иначе. Когда я сказала, что у нас нет ничего общего и нам лучше разойтись, он сразу же решил, будто не устраивает меня как мужчина. Я пыталась объяснить, в чем дело, но Хиннер меня не понял. Потом он заключил, что всему виною его романы с молоденькими медсестрами. Любые наши проблемы Хиннер сводил к постели. Боязнь оказаться несостоятельным мужчиной делала его глухим к настоящим причинам развода. В общем-то, типичная реакция. Продукт многовекового патриархата: утрата человечности в результате господства. А господство, которое держится лишь на привилегиях пола, поневоле придает сексу непомерное значение. Отсюда его примат в воображении мужчин, в их мыслях, разговорах и шутках. Это тема номер один, навязчивая, самодовлеющая. Привилегии, доводящие до абсурда — до импотенции. Тут — мужское святилище, место отдыха от тяжких обязанностей. Появление женщин здесь неприлично, как на любом мальчишнике. Это было бы изменой мужскому братству. С другой стороны, мужчины заигрывают с этой изменой, чтобы ощутить свое достояние, о котором говорят как о бережно хранимом сокровище — хвастливо и с оглядкой, вдохновенно и алчно. Сокровище надо таить, чтобы его не отняли, но о нем приходится и рассказывать, чтобы заявить себя его владельцем. Иначе я не могу объяснить реакцию Хиннера. Он защищал то, чего больше всего боялся лишиться.
По-моему, женщины относятся к сексу спокойнее, естественнее. Их детородные органы являются, по существу, рабочим инструментом. Роды — это труд. А ему чужды как чрезмерная восторженность, так и преувеличенные страхи. Это также нервирует мужчин своим отклонением от нормы — от их нормы, от того, что нормальным считают они. Мужчины борются с этими отклонениями, карают за них, чтобы сохранить свои святыни единственно истинными. Все, что не укладывается в их представлении и фантазии, объявляется фригидностью. Таков ритуал. Экзорцизм страха. Узы иллюзий.
Упреки Хиннера меня не задевали. А сочувствовать ему не хватало сил. Его ребенок был для меня чужим. К зачатию плода я была столь же непричастна, как к его изъятию. Я служила лишь объектом чужих действий. Укол, местный наркоз, легкая боль от капельницы. Потом полузабытье, до слуха доходят лишь отдельные, бессвязные слова: тщетная попытка сказать мне что-то. Слышу, как повторяют мое имя, просительно, требовательно, испуганно. Но я ушла в себя, внутрь, туда, где сознание кончилось. Мне страшно выйти из забытья, очнуться, признать своим это тело. До меня доносятся голоса, тихое звяканье хирургических инструментов, и снова — задыхающийся шепот Хиннера, его клятвы. Даже сквозь закрытые веки я вижу, как на меня надвигается огромное, слепящее солнце. Мне хочется остаться одной, совсем одной. «Уйдите, — шепчу я. — Не надо больше, не надо». Говорить трудно, язык ворочается тяжелым комом, который душит, вызывает тошноту. Я не могу додумать до конца ни одной мысли. Внезапно вокруг меня зашелестел лес, я увидела холодное, низкое небо, дорогу к мосту, развалины. Я забиваюсь в траву, под деревья. Колючие ветки, холодная земля, сырые листья.
Читать дальше







![Роберт Хайнлайн - Чужак в чужой стране [= Чужой в чужой земле, Пришелец в земле чужой, Чужак в стране чужой, Чужак в чужом краю, Чужой в стране чужих]](/books/306957/robert-hajnlajn-chuzhak-v-chuzhoj-strane-chuzhoj-v-chu-thumb.webp)