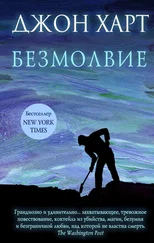Когда я, услышав крики на палубе, проснулся, оказалось, что спал я рядом с Вернером Херцогом. Он тоже проснулся и повернул ко мне голову в капюшоне тяжелого желтого дождевика. Один его глаз был закрыт капюшоном, а второй смотрел на меня, словно я был персонажем из фильма ужасов. Взгляд этого недоверчивого глаза — самое яркое впечатление от поездки, ну разве что второе по яркости, после того как, выбравшись на палубу, я увидел, что мы находимся в каком-то подобии гавани. Шесть человек пытались оттолкнуться от причальной тумбы, возле которой мы сели на дно, но не успел я присоединиться к ним, как мы вдруг сошли с мели. Причаливание продлилось двадцать минут, потому что нас всякий раз сносило, и еще битый час мы стояли на берегу в ожидании заказанных Вальтером машин, которые, как выяснилось, тоже сбились с пути. Как странно было чувствовать, что берег не качается под ногами.
Маленькие дребезжащие автобусы, которые отвезли нас в Делфт, к счастью, немножко покачивало, и я тихонько бормотал себе под нос: «Mut mußt du haben und nicht feige sein», ибо решил сказать Вальтеру, что отказываюсь участвовать в дальнейших съемках. Завтра в Хеллевутслёйсе будут сниматься новые эпизоды: крысы на сходнях, крысы в гробу, куда кто-то сует ногу. В Делфте нас ждал горячий ужин, и глубокой ночью мы все уселись за стол. Поскольку Вальтер оказался далеко от меня, мне было непросто сказать ему, что я больше не могу. Я что-то съел и спросил, не отвезет ли меня кто-нибудь в Лейден, потому что не хотел больше ни минуты держать Ханнеке в неизвестности. Желающих не нашлось. С большим трудом Вальтер сумел уговорить кого-то поехать в Лейден. И все же, несмотря на все дружелюбие Вальтера, я сказал ему:
— Больше я с вами работать не могу.
Я увидел, как вытянулось его лицо, и мне было так трудно объяснить все по-немецки, что я — как всегда «feige» [76] Трусливо (нем.) .
— поспешил уйти. Примерно через полчаса, когда уже брезжил рассвет, я вошел в спальню и услышал рыдания:
— Я думала, ты утонул, я думала, ты утонул.
Мерцал огарок свечи, которая, должно быть, горела всю ночь. Тут-то я понял, что поступил правильно — в той мере, в какой можно поступить правильно, если человек ты неосмотрительный, импульсивный, хотя, возможно, и надежный, но все же трусливый, и тебе надо против воли совершить морское путешествие, чтобы уразуметь это.
НАТЮРМОРТ
(Перевод Н. Федоровой)
— Надо же, в кои веки отмечаешь медную свадьбу — шутка ли, двенадцать с половиной лет! — а тебе этакую пилюлю преподносят, — сказал отец. Потом он любовно погладил белые обои над сервантом и добавил: — Вот сюда и нацелились его повесить. Они ведь как рассуждают: мол, двенадцать с лишним годков в браке прожили, а стенка над сервантом как была голая, так и осталась, значит, самое милое дело — подарить им картину. И тут, мол, очень на руку, что кое-кто из родни малюет красками, деньжата целее будут! Ну а коли всучат тебе эту штуковину, деваться все одно некуда — вешай на стену. Дареному коню в зубы не смотрят.
— Так разве он не красивых коней рисует? — удивилась мать, явно не вникнув в смысл заключительной фразы.
— Красивых коней? Да мне ли не знать толк в лошадях, ведь я по их милости чуть калекой не остался! Я тебе вот что скажу: он рисует коням лапы, когда любой лошадник знает, что у них ноги, да еще с копытами. А его кони блоху и ту калекой не оставят. Нет уж, его коней я на стену не повешу, ни за что, да только ведь он теперь не лошадей пишет, а натюрморты.
Последнее слово отец произнес с таким отвращением, что мы больше рта раскрыть не посмели. Я услыхал это слово впервые, и в голове у меня гулким эхом отзывалось: натюрморт, натюрморс… Что бы это могло быть? Вроде на «тюрьму» похоже, а вроде и на «морс». Ага, все ясно! Не иначе как дядя Пит сел в тюрьму и пишет там картины, а заодно попивает морс. Однако же это объяснение не вполне меня удовлетворило. И потому я осторожненько спросил:
— А что такое натюрморт?
— Ваза с цветами, — коротко бросил отец.
Я озадаченно обвел взглядом две вазы на камине, три — в задней комнате и еще две — на серванте. В них во всех благоухали цветы. Кладбищенские цветы. Ведь на кладбище что ни день приносили букеты, и отец по просьбе посетителей ставил их возле надгробий в позеленевшие оловянные вазы. Причем нередко получал за это чаевые. А после обеда — особенно зимой и в начале весны, когда смеркалось рано, — отец наведывался к этим букетам, выбирал какие покрасивее и говорил им: «Вам, право же, ни к чему замерзать да вянуть сегодня ночью, верно?»
Читать дальше






![Роб Харт - Склад = The Warehouse [litres]](/books/396684/rob-hart-sklad-the-warehouse-litres-thumb.webp)