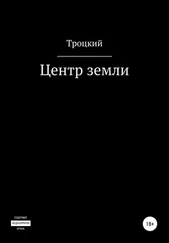— На каких досках, Фарид? Я не понимаю тебя.
— Мы все проявили безалаберность, я знаю. Но такую крупную утечку нельзя оставлять, дыру надо заделывать сразу. Есть кто-то внутри, другого никто и предположить не мог. Потому что в Газе все абсолютно надежно. И тут меня осенило — тут, в Берлине, на другом конце света. Это я. Я слабое звено. Слишком все тютелька в тютельку, слишком кстати ты вдруг появился.
— Что случилось? — говорит Джошуа. — Да объясни же мне, наконец.
— Даже теперь продолжаешь.
— Послушай, сейчас четыре утра. Я ничего не продолжаю. Я спал.
— Кровавая бойня, Джошуа.
— Не понимаю. — Голос Джошуа сделался высоким, его уже прошиб пот под одеялом.
— В Газе вытаскивают трупы из-под обломков, а дома еще горят. Ты поразил свою цель. Ты убил моего брата. Твоя удача, Джошуа. Ты сделал его мучеником, мы к этому всегда готовы. Но дети, Джошуа. В соседнем доме. Там погибла целая семья. Что ты сделал?
— Что ты говоришь, друг? Мы в Берлине. Я в Берлине.
— Израильтяне бросили бомбу на дом, где был мой брат. Но разрушили не только его, но и соседний.
— Пожалуйста, — говорит Джошуа под стук колотящегося сердца. — Просто дыши. Вдохни и выдохни. Медленно.
На самом-то деле он к себе обращается, себе пытается приказать. Паника — ему так трудно с ней справляться, вот она уже закипает, пузырится.
— Никого, — говорит Фарид. — Никого нового в нашем кругу. Ничего нового на месте. Ничего не изменилось ни в Газе, ни в Дамаске, ни в Бейруте. Никому ничего не приходит в голову, пока…
— Пока что, Фарид?
— Пока мне не пришел в голову ты. Твои телефоны! Ты вдруг возникаешь со своим бизнесом. Возникаешь со свободными деньгами, как раз когда они нам нужны. С компьютерами, когда они нам нужны. И я их беру. Я беру твои чертовы восстановленные телефоны. Я переправляю их своим людям в Газу. И теперь мой брат и все, кто был рядом, погибли.
— О господи… — Джошуа судорожно обрабатывает услышанное. — Ты же не думаешь, что я…
— Чего я не думаю — это что сумею пройти через твои ворота. Если бы думал, что смогу забраться в твой дом и задушить тебя своими руками, так бы и сделал.
— Друг, прошу тебя, что ты говоришь? Я, честно, ничего не понимаю.
— Совсем роскошный, правда же, был бы у тебя денек, если бы я, ко всему, дал тебе повод застрелить меня на твоей лужайке?
— Никто не хочет тебя застрелить, Фарид.
— И все-таки за то, что ты сделал, мы отомстим. Уже улицы Газы полны скорбящих. Уже люди идут маршем. Включи телевизор. Найди новости. Увидишь. Человеческая река длиной в пять километров.
— Но я же к этому не имею отношения.
— Не позорься дальше. Это звонок вежливости от твоего врага. Я просто хочу, чтобы ты знал: экономика террора только укрепится от этого. За детей, которых ты у нас забрал, мы отплатим тем, что заберем детей у тебя. Вот что я хотел сообщить тебе, Джошуа. Все имеет свою цену. Сегодня ночью ты убил своих собственных детей.
— Нет, постой, Фарид, — говорит Джошуа. — Ты говоришь ужасные вещи, не надо.
— Ужасные вещи для канадца? Какое дело яхтсмену из Торонто до евреев и арабов по всему свету?
— Конечно, есть дело, — говорит Джошуа. — Дети — это дети. Что бы ты ни говорил, как бы ты ни угрожал…
— Никто не угрожает, — говорит Фарид. — Не о том речь, что мы хотим что-то сделать, что мы сидим и планируем какой-то ответ. Я позвонил, чтобы ты понял: того, что уже приведено в действие, могло и не быть. Тому, чего уже нельзя остановить, дан ход из-за сегодняшнего, из-за тебя.
Джошуа знает, что ничего не следует говорить, его учили не выдавать себя ни единым словом, и все же он испытывает аномальное побуждение отозваться. Он словно оказался по другую сторону всех перегородок, стен, бастионов, возведенных, чтобы оградить его от обычных человеческих чувств в отношении Фарида.
Доля секунды — и он решается.
— Не мы начали эту драку, — говорит он.
— Вы ее начали.
— Что бы ты ни собирался сделать, прошу тебя, умоляю — ты же разумный человек. Давай все обсудим.
— Что я собираюсь сделать, уже сделано.
С усилием поднимаясь из кресла, Генерал складывает газету по сгибам и оставляет ее, как и миски, бывшие у него на коленях, на подносе рядом с чаем. Звук выстрела — вот что тянет его. Но он противится побуждению побежать в ту сторону. Вместо этого Генерал заставляет себя вернуться к тому зеркалу и, подойдя, сдергивает с него ткань.
И что за отражение он там видит? Там его премьер-министерское «я», и его полководческое «я», и его «я» раненого солдата, истекающего кровью, лижущего губы, умирающего от жажды. В том же зеркале его улыбающееся мальчишеское «я»: короткие штанишки, лицо измазано пурпурным виноградным соком — вот бы куда вернуться, вот бы кем снова стать.
Читать дальше






![Натан Энгландер - Ради усмирения страстей [Литрес]](/books/396613/natan-englander-radi-usmireniya-strastej-litres-thumb.webp)
![Натан Энгландер - Министерство по особым делам [Литрес]](/books/396614/natan-englander-ministerstvo-po-osobym-delam-litr-thumb.webp)
![Натан Энгландер - Ужин в центре земли [Литрес]](/books/396615/natan-englander-uzhin-v-centre-zemli-litres-thumb.webp)