Я не заметила, как он подошел, потому что он направился к нам через коридор и, подмигнув, спросил у Эрнста разрешение пригласить меня на танец. Играл фокстрот, и нам невольно пришлось общаться – танцпол был забит битком, и было невозможно сдвинуться с места. Он сразу начал много говорить, упоминал свою секретаршу – ту молодую блондинку – и свою жену, которая, увы, заболела, а он не мог пропустить мероприятие по служебным причинам. Я не знала, шутка ли это, ведь я не имела ни малейшего представления об обязанностях управляющего по культуре; я только видела, что он хорошо проводит время, и мне тоже было весело. Меня тянуло к нему, хотя я чувствовала какой-то подвох; его ловкость и гибкая походка словно делали легким все вокруг, даже я сама будто стала меньше весить. «Мне нравятся ваши духи», – шепнул он мне на ухо, и я покраснела, потому что не пользовалась духами, и поэтому сначала его замечание показалось мне еще более лестным – но потом, поразмыслив, я заподозрила, что он знал об этом заранее, потому что он улыбнулся слегка заговорщически, когда я сказала ему, что думала.
Я всегда говорила ему только правду. Эрнсту обычно мне было лгать ни к чему, но и никаких признаний я не делала – потому что иначе лжи было не избежать. Между нами все шло как обычно, и никакие разговоры не могли ничего изменить, сложности его не интересовали. Целью его жизни было спокойствие, это было ясно, как день, и он обращал внимание на людей, только если они нарушали его покой. Он был доволен, когда находил причину и мог отложить раздумья в архив – у Фредди неприятности в магазине, и поэтому он такой грустный, или Моника больше к нам не приходит, потому что у нее проблемы с алкоголем. Этого ему было достаточно, и он принимался ждать – спокойно, как Будда, – пока неурядицы не разрешатся самым приятным для него образом. Иногда он брал с тумбочки мои романы и вполголоса читал текст на суперобложке, а потом с искренним изумлением спрашивал, почему меня интересует измена дворянки из прошлого века – которая вдобавок умерла после этого от тоски. Ирми знала меня хорошо, но ничего не спрашивала; я очень ценила ее за это свойство. У меня было несколько подруг, которые рассказывали мне всякое – о маленьких интрижках, тайных печалях или просто о тщетных попытках получить от мужа каракулевую шубу. Я ничего подобного рассказать не могла; я могла сама купить себе меха, но и Эрнст подарил бы их мне без всяких разговоров, ведь покой в доме был для него превыше всего, и он бы согласился заплатить каракулем. Он получил желаемое – меня – и оттого стал уступчивее и еще терпеливее, чем прежде; у него больше не осталось желаний, но он не умирал, а продолжал жить, словно собака, которая постепенно начинает страдать ожирением печени, и, наконец, она тихо засыпает и видит прекрасные сны.
То, что он действительно мертв, я узнала только из газет. «Скончался на месте», – говорилось в первой и во второй статьях, с одинаковой формулировкой, словно сообщение просто переписали. Возможно, он сломал себе шею. Думаю, от внутреннего кровотечения люди не умирают на месте. Раскрываемость дел по бегству водителей с места происшествия постоянно растет, так написали в газете. Но что можно сделать, если свидетелей нет: не будут же они проверять все машины на пятьдесят километров вокруг. Хотя, вообще-то, это тоже бесполезно.
Тем вечером мы танцевали еще дважды; в полвторого, когда мы собрались домой, он по-прежнему находился на танцполе; сомневаюсь, что он заметил наш уход. Мы все были слегка пьяны, и Сабина отвела меня на лестнице в сторонку и сказала о нем несколько восхищенных слов. «Любимец женщин, – восторгалась она, его ждет большая карьера! – Если бы Фредди так пристально за мной не следил – я бы не удержалась от греха». Но Сабина говорит так всегда, отчасти чтобы позлить Фредди, а еще потому, что ей довольно скучно живется в Л. «Я родила четверых детей исключительно от скуки!» – иногда говорила она; но при этом Сабина образцовая мать и такая же надежная, как Эрнст, просто не хочет этого признавать. Я ей ничего не ответила; я подумала, что посплю ночь, и все пройдет; в конце концов, все проходит; тебе уже за сорок, твердила я, завтра, нет, сегодня твоей дочери исполняется тринадцать, и ты давно разучилась флиртовать, даже если когда-то и умела.
Прошло несколько недель. Я действительно не умела флиртовать и никогда этому не училась; я вообще не умела относиться к чему-либо легкомысленно, просто пробовать, рисковать. Я могла только терпеть, это я умела прекрасно и могла вытерпеть все: Эрнста и его привычки, Руди Каррелла и его проглоченные «р», приступы злобы у Даниэлы и то, что Ирми не вечна; я могла вытерпеть все. Прошло несколько недель, и я с ним больше не виделась и думала по утрам в машине, что все к лучшему, потому что интрижки – это не для меня, а он был мужчиной именно такого типа, я поняла сразу. То же самое я твердила себе по вечерам, когда ехала домой; мы ужинали в компании Ирми, Эрнста и Даниэлы, потом садились смотреть телевизор, а Даниэла слушала в наушниках музыку у себя в комнате, или болтала по телефону с подругами, или просто валялась и пялилась на постеры, приделанные булавками к стене. Я бы с удовольствием занялась тем же самым, но все же испытывала облегчение, что мне подобное поведение не подобает – так могут вести себя лишь подростки: безудержно о чем-то мечтать.
Читать дальше
![Эльке Шмиттер Госпожа Сарторис [litres] обложка книги](/books/397564/elke-shmitter-gospozha-sartoris-litres-cover.webp)
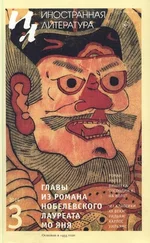

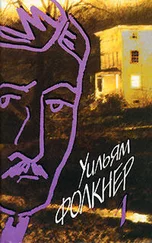

![Мелани Бенджамин - Госпожа отеля «Ритц» [litres]](/books/384861/melani-bendzhamin-gospozha-otelya-ritc-litres-thumb.webp)
![Кира Стрельникова - Госпожа повариха [litres]](/books/388711/kira-strelnikova-gospozha-povariha-litres-thumb.webp)
![Георгий Смородинский - Рыцарь Госпожи Смерти [СИ litres]](/books/388927/georgij-smorodinskij-rycar-gospozhi-smerti-si-lit-thumb.webp)
![Виктория Полечева - Тюльпинс, Эйверин и госпожа Полночь [litres]](/books/391298/viktoriya-polecheva-tyulpins-ejverin-i-gospozha-poln-thumb.webp)
![Милена Завойчинская - Госпожа управляющая [litres]](/books/393031/milena-zavojchinskaya-gospozha-upravlyayuchaya-91-litre-thumb.webp)
![Кира Стрельникова - Госпожа принцесса [litres]](/books/430427/kira-strelnikova-gospozha-princessa-litres-thumb.webp)
![Макс Мах - Госпожа адмирал [litres]](/books/435913/maks-mah-gospozha-admiral-litres-thumb.webp)
