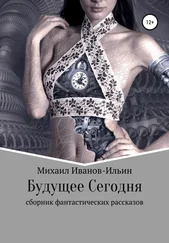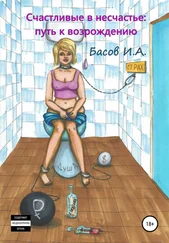Вот почему царю нужна прежде всего сила религиозного характера. Не только воля к власти, но и сила преданности Божьему делу, которому служит его народ; не только сила воли, но и ее религиозно-государственная чистота; не только чистота воли, но и чистота ви́дения. Царь с трусливою, безвольною, религиозно-безразличною и низкою душою есть несчастие и проклятие для своего народа, и первая обязанность такого царя в том, чтобы осознать свою непризванность и свою личную духовную несостоятельность – и отречься. Религиозное осмысление и освящение царской власти и, далее, всего государственного делания и служения таит в себе подлинную, глубокую и спасительную истину. И именно поэтому следует заботиться не об отделении церкви от государства – религиозной чистоты от пребывающего в духовном компромиссе служения, – а об их верном сочетании и сотрудничестве.
Тою же глубиною и спасительностью проникнута и идея «христолюбивого воинства». Воин именуется «христолюбивым» не только потому, что он член христианского государства, что его родина возрастает в христианском духе и что сам он призван оборонять христианскую веру, а ещё и потому, что в любви ко Христу и к преподанной Им полноте совершенства он имеет живую основу своего личного духа, ею утверждает святыню своего личного Кремля, в ней почерпает необходимую ему силу подвига и очищения. Здесь нет того внутреннего противоречия, которое пытаются усмотреть сентиментальные моралисты; напротив: меч духовно необходим человеку в земной борьбе за дело Божие; но принять бремя связанных с ним душевных и телесных опасностей и страданий может лишь тот, кто утверждает свою любовь, свою жизнь и деятельность в луче Божьего света и совершенства.
И вот, если объединить всё государственное начало понуждения и пресечения в образе воина, а начало религиозного очищения, молитвы и праведности в образе монаха, – то решение проблемы выразится в усмотрении их взаимной необходимости друг для друга.
Воин как носитель меча и мироприемлющего компромисса нуждается в монахе как в духовнике, в источнике живой чистоты, религиозной умудрённости, нравственной плеромы: здесь он приобщается благодати в таинстве и получает силу для подвига, здесь он укрепляет свою совесть, проверяет цель своего служения и очищает свою душу. И самый меч его становится огненною молитвою. Таков Дмитрий Донской у св. Сергия перед Куликовой битвой.
Монах как живой хранитель чистоты и праведности приобщается через воина бремени мира, его страданию и его героической неправедности; он уже не отрешается и не замыкается в своей праведности: он бережёт и строит её не для себя: он не отвёртывается от зла и злых обстояний, а вступает в борьбу с ними, становясь соратником воину, разделяя его страдания, благословляя и осмысливая его подвиг, сохраняя для него чистоту и умудрение. Монах выступает как бы ангелом-хранителем воина, и самая молитва его уподобляется огненному мечу. Таков св. Сергий, благословляющий Дмитрия Донского и дающий ему в спутники двух меченосных послушников.
Древнерусская православная традиция верно и глубоко разрешала вопрос о соотношении церкви и государства – в разделении их сфер и в органическом согласовании их целей и их усилий, в обоюдной независимости их организации при взаимном непосягании и невторжении, в добровольном приятии воином духовного, умудряющего научения от монаха и в нетребовательном приношении монаху необходимых земных благ. И воин не падал под тяжестью своего бремени, и монах не отвёртывался от бремени мира. Сопротивление злу мыслилось и творилось как активное, организованное служение делу Божьему на земле, и государственное дело осмысливалось как пребывание не вне христианской любви, а в её пределах. И может быть, одним из самых величавых и трогательных обычаев этого строя был тот обычай, согласно которому православный царь, чуя приближение смерти, принимал монашескую схиму как завершительный возврат из своего неправедного служения в плерому оправдывающей чистоты.
Необходимость духовно-нравственного очищения прямо предуказана и установлена в Евангелии, и притом именно для тех, кто посвящает себя борьбе с чужим злом и с чужими злодеяниями. Тот, кто не умеет вынуть «бревно из своего» собственного глаза (Мф. 7, 3–5; Лк. 6, 41–42), тот не сумеет вынуть и сучок из глаза брата своего, и весь суд его превращается в лицемерие. Только чистое око способно верно увидеть, где в чужой душе слабость, где недуг и где зло, увидеть и найти верный «суд» и верную «меру» (Мф. 7, 1–2; Лк. 6, 37–38), тот «суд» и ту «меру», которыми он сам с радостью будет «судим» и «измерен». Но чистым может быть только то око, о чистоте которого всегда радеет его обладатель, ибо «никто же свят, токмо един Бог». Тот, кто судит, тот должен быть и сам готов к суду над собою, и это означает, что он всегда должен судить самого себя так, как он судит злодея. Мера судейской компетентности определяется мерою творящегося самоочищения; злодей не судья злодею, и погрязающему в страстных слабостях не дано побивать камнями слабого и страстного грешника (Ин. 8, 3–11), но «вынь прежде бревно из твоего глаза» (Мф. 7, 5; Лк. 6, 42) и тогда увидишь…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
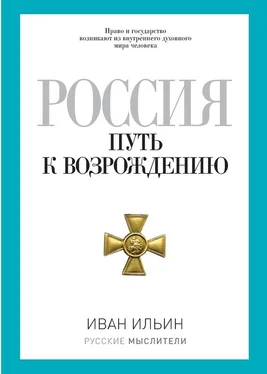
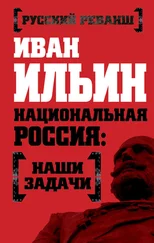


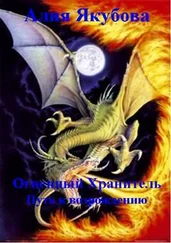
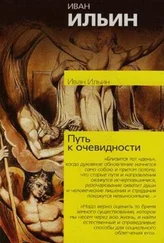

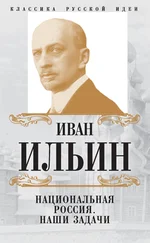
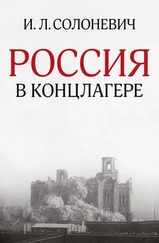
![Иван Оченков - Стрелок - Путь на Балканы. Путь в террор. Путь в Туркестан [сборник litres]](/books/433757/ivan-ochenkov-strelok-put-na-balkany-put-v-terr-thumb.webp)