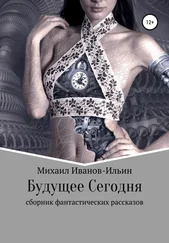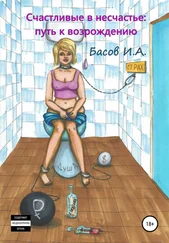Напрасно было бы ссылаться здесь в виде возражения на заповеди Христа, учившего любить врагов и прощать обиды. Такая ссылка свидетельствовала бы только о недостаточной вдумчивости ссылающегося.
Призывая любить врагов, Христос имел в виду личных врагов самого человека («ваших», «вас»; ср. Мф. 5,43–47; Лк. 6,27–28), его собственных ненавистников и гонителей, которым обиженный, естественно, может простить и не простить. Христос никогда не призывал любить врагов Божиих, благословлять тех, кто ненавидит и попирает всё Божественное, содействовать кощунственным совратителям, любезно сочувствовать одержимым растлителям душ, умиляться на них и всячески заботиться о том, чтобы кто-нибудь, воспротивившись, не помешал их злодейству. Напротив, для таких людей, и даже для несравненно менее виновных, Он имел и огненное слово обличения (Мф. 11, 21–24; 23; Мк. 12, 35–40; Лк. 11, 39–52; 13; 32–35, 20; 46–47 и др.), и угрозу суровым возмездием (Мф. 10, 15; 12, 9; 18, 9, 34–35; 21, 41; 22, 7, 13; 24, 51; 25, 12, 30; Мк. 8, 38; Лк. 19, 27; 21, 20–26; Ин. 3, 36), и изгоняющий бич (Мф. 21, 12; Мк. 11, 15; Лк. 19, 45; Ин. 2,13–16) и грядущие вечные муки (Мф. 25, 41, 46; ср. Ин. 5, 29). Поэтому христианин, стремящийся быть верным слову и духу своего Учителя, совсем не призван к тому, чтобы противоестественно вынуждать у своей души чувства нежности и умиления к нераскаянному злодею как таковому, он не может также видеть в этой заповеди ни основания, ни предлога для уклонения от сопротивления злодеям. Ему необходимо только понять, что настоящее, религиозно-верное сопротивление злодеям ведёт с ними борьбу именно не как с личными врагами, а как с врагами дела Божия на земле; так что чем меньше личной вражды в душе сопротивляющегося и чем более он внутренне простил своих личных врагов – всех вообще и особенно тех, с которыми он ведёт борьбу, – тем эта борьба его будет при всей её необходимой суровости духовно вернее, достойнее и жизненно целесообразнее. [125] См. главы двадцать первую и двадцать вторую.
Это относится всецело и к заповеди о прощении обид. Согласно этой заповеди, человек имеет призвание прощать своим обидчикам наносимые ему личные обиды (ср.: «сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня!» Мф. 18, 21; «если семь раз в день согрешит против тебя…» Лк. 17, 3–4; «должен был ему сто динариев…» Мф. 18, 28). При этом размеры прощающей доброты и терпеливости должны быть поистине бесконечны (Мф. 18, 22). Однако даже в рассмотрении личной обиды Евангелие устанавливает те условия, при которых «согрешивший против тебя брат твой» может стать для тебя «как язычник и мытарь» (Мф. 18, 15–17): допуская силу личного ожесточения, неподдающегося никаким уговорам («выговори ему», Лк. 17, 3), Евангелие указывает на суд церкви как на высшую инстанцию, неповиновение которой несёт за собой понудительную, воспитывающую изоляцию ожесточённого. Понятно, что обращение к этой инстанции и исключение обидчика из общения – нисколько не мешают акту внутреннего прощения, и точно так же акт личного прощения, разрешая проблему обиженности, совсем не разрешает проблему обидчика и его ожесточённости. Однако помимо всего этого Христос предвидел и указал такие злодейства («соблазнение малых»), которые, по Его суждению, делают смертную казнь лучшим исходом для злодея (Мф. 18, 6; Мк. 11, 42; Лк. 17, 1–2).
Вообще говоря, нужна сущая духовная слепота, для того чтобы сводить всю проблему сопротивления злу к прощению личных обид, к «моим» врагам, «моим» ненавистникам и к «моему» душевно-духовному преодолению этой обиженности, и было бы совершенно напрасно приписывать такую духовную слепоту Евангелию. Естественно, что наивный человек с его чисто личным и скудным мировосприятием не видит добра и зла в их более чем личном – общественном, общечеловеческом и религиозном измерении, и именно потому он полагает, что личное прощение угашает зло и разрешает проблему борьбы с ним. Но на самом деле это не так Простить обиду значит погасить в себе её злотворящую силу и не впустить в себя поток ненависти и зла, но это совсем не значит победить силу злобы и зла в обидчике. После прощения остаётся открытым и неразрешённым вопрос: что же делать с обидевшим, не как с человеком, который меня обидел и которому за это «причитается» от меня месть или «возмездие», а как с нераскаявшимся и неисправляющимся насильником? Ибо бытие злодея есть проблема совсем не для одного пострадавшего и совсем не лишь в ту меру, в какую ему не удалось простить; это – проблема для всех, значит, и для пострадавшего, но не как для пострадавшего и непростившего, а как для члена того общественного единения, которое призвано к общественному взаимовоспитанию и к организованной борьбе со злом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
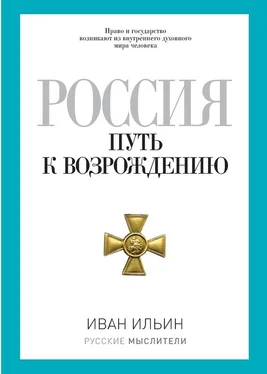
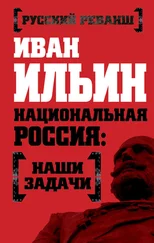


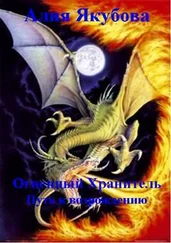
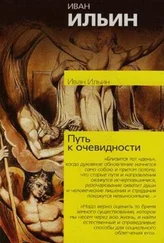

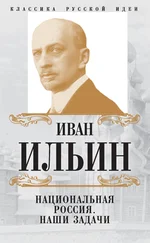
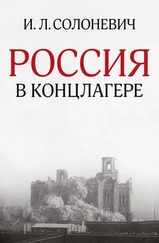
![Иван Оченков - Стрелок - Путь на Балканы. Путь в террор. Путь в Туркестан [сборник litres]](/books/433757/ivan-ochenkov-strelok-put-na-balkany-put-v-terr-thumb.webp)