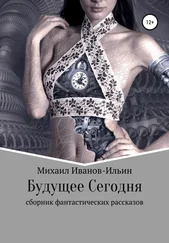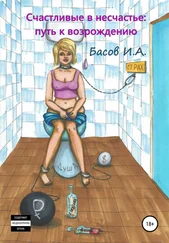Именно перед этим трагическим законом человеческого существа сентиментальный моралист остановился, содрогнулся и не принял его. Он не принял такую цену одухотворения и закрыл себе глаза на основную трагедию человека. Он испытал страдание как зло и отверг его. Согласно этому отвержению, он начал искать путь к внутреннему наслаждению и нашёл его в упоении жалостью; он начал жалеть всякого страдающего и положил как высшее – непричинение страданий другим. И далее, он не только отверг страдающий путь, но и самую цель страдающего восхождения: дух. Сентиментальность его излилась в гедонизм и привела его к противодуховности. Вся духовная сокровищница, всё духовное делание человечества было осуждено и отвергнуто ради того, чтобы люди не мучились и не «обижали» друг друга, ради единственного, высшего достижения: всеобщего наслаждения всеобщею взаимною жалостью.
Этот сентиментальный гедонизм учит, что нет на свете ничего высшего, во имя чего людям стоило бы страдать самим и возлагать страдания на своих ближних. Вся задача в том, чтобы все внутренне претворили своё страдание в сострадание и тем проложили себе путь к высшему наслаждению. Выше этого идти некуда и незачем. «Насильственно» этого нельзя достигнуть, и потому «насилие», как бесцельно умножающее страдания людей, осуждается безусловно. Но это и означает, что духовный нигилизм есть порождение сентиментального гедонизма; учение о непротивлении злу насилием есть последовательный вывод из того и другого.
Всё это может быть выражено так: мораль Л. Н. Толстого видит в идее добра элемент любви и не видит элемента духа. Поэтому она утверждает как высшую ценность бездуховную и противодуховную любовь, которая оказывается безвольной, сентиментальной жалостью и совлекает вслед за собою все высшие жизненные ценности на уровень элементарной, инстинктивной душевности. Соответственно с этим мораль Л. Н. Толстого видит в идее зла элемент ненависти и не видит элемента противодуховности. Поэтому она усматривает самый тяжкий грех во вражде или её внешних проявлениях, осуждает духовно верное отъединение незлодеев от злодеев и не замечает, что она сама включает в свой «идеал» черту сущего зла – противодуховность. Вследствие этого всё учение о добре и зле оказывается искажённым и несостоятельным. «Добро» предстаёт в образе мелком и плоском, гедонистически-самодовлеющем, духовно мертвенном и сентиментально-идиллическом. «Зло» предстаёт в образе сравнительно безвредном (внешнее насилие), легко преодолимом, лишённом своей существенной ядовитости и в то же время вызывающем у моралиста несоответственно преувеличенное, аффектированное негодование. Всё размежевание добра и зла оказывается неверным: духовно-нигилистические, сентиментально-пошлые, безвольные и духовно-безответственные настроения и поступки относятся к добродетельным; напротив, деяния героически-волевые, пророчески-гневные, пресекающие зло и карающие злодея, причисляются к самым позорным и низменным проявлениям человека. И надо всем этим царит прямолинейность рассудка и наивность рассуждающего обывателя.
Естественно, что вместе с отвержением духа и решительным предпочтением бездуховной, жалеющей и наслаждающейся души всё в жизни перемещается и обесценивается. То, во имя чего человеку стоит, жить на земле и страдать, отпадает, а то, что остаётся и стремится занять место отпавшего, оказывается не таковым, чтобы из-за него стоило страдать и умирать.
В самом деле, духовное начало в человеке есть источник и орудие Божественного Откровения; оно даёт человеку нечто такое, из-за чего стоит жить, стоит воспитывать себя и других, нести страдания и поднимать бремена; здесь есть драгоценность, которою стоит жить и ради которой стоит и умереть. Ею осмысливается и жизнь, и страдания, и смерть. Эта святыня не только больше личности, больше личной морали и личного наслаждения: она больше, чем любая совокупность людей, отвергнувшая её и противопоставившая себя ей. Ибо ею, этой святынею, определяется главное, реальное и священное в человеке, в людях, в человечестве. И именно в служении ей человек находит последнее и главное основание для понуждения и пресечения.
С отпадением этой святыни всё сводится ко множеству индивидуальных людей, то предающихся взаимному «обижанию» и «насилию», то наслаждающихся взаимным состраданием. Все они суть равные моральные атомы, и нет среди них ни слуг, ни органов святыни, перед нею ответственных, ею уполномоченных, её представляющих и за неё умирающих и карающих. Нет церкви, хранительницы откровения; нет родины, живой сокровищницы духа; нет мудрости и национального восхождения к ней; нет красоты, нет героизма, чести и их живой традиции; грубое и пошлое насилие усмотрено там, где на самом деле творится живая тайна политического единения… Людям не из-за чего понуждать и воспитывать друг друга. Человек чувствует только свою личную «обиду» и желание «отомстить»; и задача его сводится к тому, чтобы не мстить, а «простить» и «пожалеть»; и если ему удаётся любить своих обидчиков и никого не обижать, то задача его жизни решена. Сентиментальный моралист не видит, что он духовно опустошил человеческую душу и поверг её в состояние ослепления и пошлости. Он не понимает, что человек значителен только в меру своей духовности и что в меру своей бездуховности и противодуховности человек слеп и пошл. Он не видит того, что духовно пустая душа, отвернувшаяся и насмеявшаяся, становится религиозно уродливым явлением, заслуживающим не умилённой жалости, а гнева и отрезвления. Он не понимает того, что чужая пошлость нисколько не лучше моей собственной и нисколько не заслуживает ни любви, ни поддержки, ни жертвы; что альтруизм совсем не состоит в обслуживании чужой пошлости только потому, что она «чужая»; что любовь к ближнему есть любовь к его духу и его духовности, а не просто жалость к его страдающей животности. Он проповедует любовь и не замечает того, что он низводит и совлекает это великое начало, отрывая его от духовности. Ибо «любовь» сентиментального и противодуховного гедониста идёт не от духа и не к духу, она не ставит ни себя, ни любимого пред лицо Божие; это не есть встреча в Божественном, в совместном испытании и увидении Его, во взаимном научении, ободрении, воспитании, окрылении и в объединении двух духовных горений. Нет, это есть взаимное расслабление во взаимной животной жалости: это безвольное потакание сентиментального человека, больше всего боящегося, как бы ему не причинить ближнему «неприятность»; это бесхарактерное, сладостное сочувствие, одинаково изливающееся и на кроткого, и на злодея и вредящее обоим. Такое противодуховное сострадание недостойно человека, его духа и его призвания, ибо любовь унизительна и для любимого, и для любящего, если она не есть при всей своей радостной нежности духовная воля к духовному совершенству любимого.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
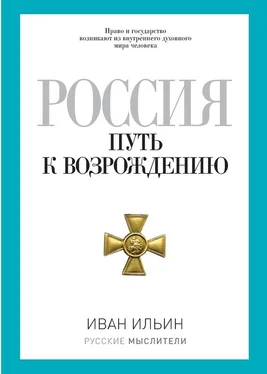
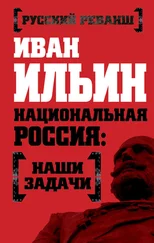


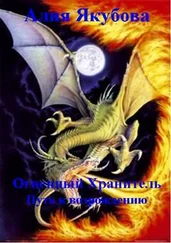
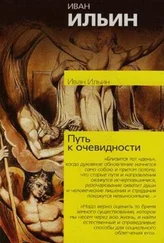

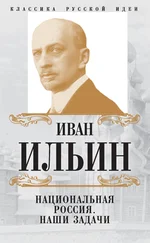
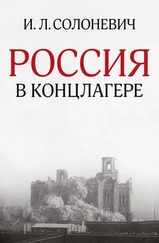
![Иван Оченков - Стрелок - Путь на Балканы. Путь в террор. Путь в Туркестан [сборник litres]](/books/433757/ivan-ochenkov-strelok-put-na-balkany-put-v-terr-thumb.webp)