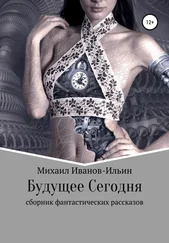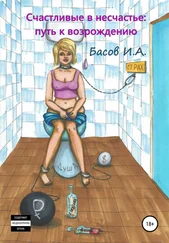Именно поэтому моралист такого уклада, если только он последователен, неизбежно будет обречён в жизни на чудовищные положения. Ибо, в самом деле, что ответит он себе и Богу, если, присутствуя на изнасиловании ребёнка озверелою толпою и располагая оружием, он предпочтёт уговаривать злодеев, взывая к очевидности и любви, и потом, предоставив злодейству свершиться, останется жить с сознанием своей моральной безукоризненности? Или он здесь допустит «исключение»? Но во имя чего же? Во имя чего он пожертвует своей праведностью и совершит «зло», воспротивившись «насилием»? Если это высшее доступно ему и признается им, то его необходимо формулировать… А если оно будет формулировано, то что же останется от всей пресловутой доктрины «непротивления»?
10. О сентиментальности и наслаждении
Ещё более глубокие и определяющие связи соединяют доктрину «непротивления» с содержательными корнями всего учения. Ибо идея «любви», выношенная и выдвинутая Л. Н. Толстым, вносит от себя такое содержание во все его основоположения и выводы, которое предопределяет собою неверность почти всех его вопросов и ответов.
«Любовь», воспеваемая его учением, есть, по существу своему, чувство жалостливого сострадания, которое может относиться к какому-нибудь одному определённому существу, но может захватывать душу и безотносительно, погружая её в состояние беспредметной умиленности и размягчённости. Именно такое чувство, укоренясь в душе, захватывая её глубочайшее чувствилище и определяя собою направление и ритм её жизни, несёт ей целый ряд опасностей и соблазнов.
Так, прежде всего это чувство само по себе даёт душе такое наслаждение, о полноте и возможной остроте которого знают только те, кто его пережил. Испытывать его есть благо совсем не в том только смысле, что оно морально ценно и что его следует испытывать, но и в том смысле, что оно само по себе даёт душе величайшее удовлетворение, услаждая её и насыщая её этою сладостью. В этом состоянии душа переживает себя блаженно-единою, целостно охваченною и растворённою; в ней всё как бы течёт и струится, звучит и светится, поёт и сияет; она обретает в себе самой источник ни в чём другом не нуждающегося счастья, и притом такой источник, которого не может отнять у неё чужой произвол и по сравнению с которым другие источники кажутся скудными, слабыми и ненадёжными. Но именно эта непосредственная доступность ключа к наслаждению, его самодовлеющий характер, интенсивность даруемого им удовлетворения и особенно способность его играть и петь в беспредметном умилении могут незаметно приучить душу к духовно неоправданному и духовно малозначительному самоуслаждению, к сосредоточенности на этом самоуслаждении и на его добывании. Это «благо» может приковать к себе душу не силою своего духовного превосходства и совершенства, а силою своего услаждающего блаженства, и, далее, именно постольку оно может повести к охлаждению и инстинктивному отвращению ото всего, что не есть это благо или что не ведёт к нему. Это может породить практику и теорию морального наслажденчества (гедонизма), искажающую и силу очевидности, и миросозерцание, и основы личного характера.
Моральный гедонист инстинктивно тяготеет ко всему, что вызывает в нём состояние блаженного умиления, и столь же инстинктивно отвращается ото всего, что грозит нарушить, оборвать и погасить это состояние. Его духовное око начинает искать во всём умиляющего и быстро отвёртывается или закрывается, как только в поле его зрения появляется что-либо возмущающее или отвратительное. Раздражение, ожесточение, злоба тягостны ему и в нём самом, как чувства, противоположные искомому блаженству, и в других, как колеблющие его собственное блаженное равновесие и самочувствие; поэтому он как бы из инстинкта самосохранения приучается отвёртываться от зла и предаваться своему внутреннему благу. Постепенно его духовное око приспособляется и научается видеть во всём «умилительное» и не видеть того, что подлинно отвратительно. Тягостный, мучительный, изнуряющий душу опыт подлинного зла совсем отстраняется им и отводится; он не хочет этого опыта, не позволяет ему состояться в своей душе и вследствие этого постепенно начинает вообще «не верить во зло» и в его возможность. Осознав этот приём свой, он формулирует его в виде правила, рекомендующего отвёртываться от зла, недосматривать, забывать. И согласно этому правилу всё воспринимаемое им начинает систематически процеживаться, перетолковываться, искажаться. Моральный гедонист не видит того, что ему реально даётся, и видит не то, что подлинно есть. Он ценит в опыте не объективную верность и точность, а соответствие своим субъективным настроениям и выросшим из них фантазиям. Он приучается фантазировать в опыте и испытывать свои фантазии как реальность; его миросозерцание приобретает черты идиллической противопредметности. Понятно, как отзывается это всё на его жизнеучительстве, особенно когда он касается вопроса о «сопротивлении злу» «насилием»… Только по недоразумению можно видеть в нём учителя и вождя.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
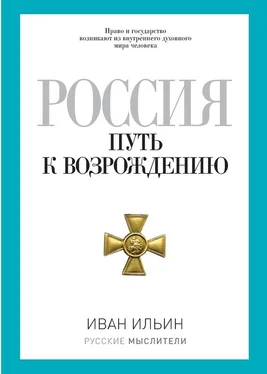
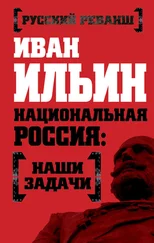


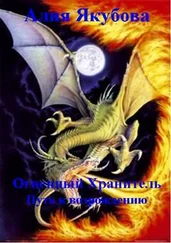
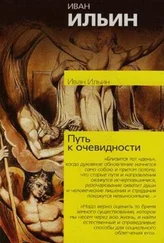

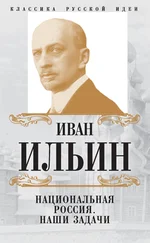
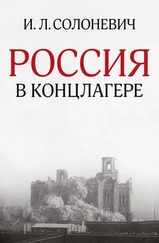
![Иван Оченков - Стрелок - Путь на Балканы. Путь в террор. Путь в Туркестан [сборник litres]](/books/433757/ivan-ochenkov-strelok-put-na-balkany-put-v-terr-thumb.webp)