Конечно же, не древние лемуры воздвигли здесь первые стены согласно своему обряду, и нет правды в заговорах, союзах и тех суевериях, которые Петербург всегда вызывал у русских людей, не желающих ему добра. Но верно, что этот город всю жизнь привлекал к себе людей особого склада… и привычные пустоты вокруг от многолетнего вандализма не дают нам заметить, сколько незримых зданий воздвигнуто в его пейзаже: и ведь только они – и ничто другое не может достоверно составлять столицу, которая пережила пожарище и вырождение, в самые невероятные времена наделяя нас вдруг неожиданной чувствующей волей, рождающей и внезапную память, с которой передаётся тайное. Но вряд ли это оплакиваемая столица исчезнувшей империи – скорее былая столица рыцарей, мальтийских и розокрестных, убежище учёных диковин, выстроенный в надежде город, где «Рукопись, найденная в Сарагосе» впервые увидела свет, а Клингер создавал в тиши острова свою «Жизнь Фауста». Возможно, это и грустно, что по такой линии располагаются наши имение и всё наследство, делающее нас здесь читателями неписаных книг, ценителями невозможного искусства и научившее жить ради доблести знания о том, что никакая возможность не исчезает бесследно.
Поэтому сейчас, когда «вещи выдают своих мертвецов», среди возникшей давки мы свободно разгуливаем на просторе, украшая призрачные ухищрения своего платья цветами и серебром: в окружении безвкусицы мы встречаемся на Невском проспекте как взаимные модели или витрины, где отражаются наши простые души. Не одарённые глубокими познаниями в истории и в мёртвой грамоте, мы строим жизнь, исходя по сгоревшим законам «Справедливости» Карпократа в череде сатурналий, воскрешающих для нас небывший солнечный Гелиополь, преодолевший злоключения времени. Как видишь, наша традиция беспочвенна, как сами петербургские топи; её истоки скрываются в домыслах и позоре… однако чисты как топографический идеал, заложенный здесь зодчими братьями и измеренный нами вполне. Вот почему надежда на счастливое соизмерение, очевидно несбыточная, всё же не оставляет нас, несколько извиняя наши иногда нескромные причуды.
В самом деле, как часто, прохаживаясь по моему острову, я испытывал наслаждение, раскрывающееся в геометрии его кварталов, чередовании разных картин, дающих вместе самозабвение и какое-то вновь ощущение себя, это знакомое за Петербургом раздвоение. Как часто, окидывая с высоты из Гавани как будто аллегорически возлежащую фигуру острова и города, я вздрагивал, воображая человеческие очертания застывшей спермы поверженного гиганта, и гения, протягивающего на ладони пламенеющий кристалл гомункулуса, и нашу беготню, проистекающую в сети сообщения вен, капилляров – как инфекция тел, закупоривающих и осушающих сосуды, разыгрывающих совокупление, гибнущих невпопад – обуревающая сквозняком, как мёртвые рачки планктона, ложбины воспалённого и обезображенного корпуса. Иногда от бессонницы в полнолуние я выбираюсь на крышу моего дома и под набегающую по небу ночь грежу о спящем или простёртом на посеребрённом луной песке ручья теле: я вижу древнее, восточное платье, растекающееся шитьём в подобие пейзажа, напомаженный, с бородой и ногтями, крашенными хной, он раскидывает руки, мерцающие во тьме серебром и мутными камнями перстней, удерживая за плечи склонившуюся над ним женщину в пыльном покрывале, прикрывшую глаза и оттого уже вперившуюся в него всем лицом, светящимся от бледности… Но я не могу разглядеть черты лиц, до того они сливаются в этой моей фантазии, поэтому создавая сияние, которое вынуждает меня выходить из себя. И я забываюсь и, крадучись в глубокой ночи, рыскаю среди теней домов по городу – чтобы однажды случайная собака загрызла в переулке кота и тут же кто-то скончался в забытой комнате на Васильевском острове. Впрочем, это возможные и бесплотные галлюцинации моих счислений.
По лучшей погоде я выбираюсь в моих изысканиях до Петропавловской крепости, где у внутренних ворот задерживаюсь под бронзовой доской с изображением Симона Волхва, раскрыв крылья низвергающегося по мановению руки Петра на водную площадь перед шпилем, окружённую триумфами флотов императора. Вряд ли я – или кто-то другой сможет ясно распутать сети мифологических противоречий, теряющихся в небытии: двусмысленное барокко петербургской символики будет вечно водить по своему лабиринту. Остались намёки в кружковых изданиях и картины из собрания «Древней российской вивлиофики» Новикова, доносящие редкие обрывки праздников и мистерий, обозначающих установление города: смутно стоит опустевший от грозы Рим, пылающее земной страстью сердце Нерона, излетевшее и носящееся по воздуху, зажигает пожарище, народ собирается в Колизей, где у всех на глазах происходит тяжба двух Симонов, Петра Апостола и Мага, как её описал в своих «Признаниях» папа Климент.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Василий Кондратьев Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres] обложка книги](/books/396740/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass-cover.webp)
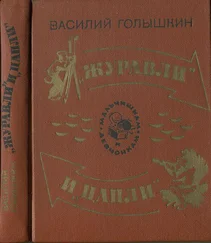

![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](/books/211190/vasilij-lebedev-zolotoe-runo-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)




![Александр Кондратьев - Сны [Романы, повесть, рассказы]](/books/396149/aleksandr-kondratev-sny-romany-povest-rasskaz-thumb.webp)
![Леонид Андреев - Повести и рассказы [litres]](/books/401954/leonid-andreev-povesti-i-rasskazy-litres-thumb.webp)
![Вячеслав Кондратьев - На поле овсянниковском [Повести. Рассказы]](/books/417450/vyacheslav-kondratev-na-pole-ovsyannikovskom-povest-thumb.webp)

