Кругом встречая иллюзии прежней и будущей жизни, то руины, то обещающие вывески, и, привыкший развлекаться сам по себе, раскидывая свой покер на экране в углу безлюдного заведения, я различаю все мои видения как происходящие или возможные: всё новые встречи, выдающие мою забывчивость и безразличие, убеждают меня в том, что эта небывалая, наглая рассеянность – не удивляться ничему, не признавать никого – обязана некоей скрытой памяти сродни ликантропии, вполне раздвигающей мои познания, дающей верное чутьё. Иначе я не понимаю близость, которую мне внушают животные – и почему, засыпая, я как будто вижу кота, трусящего в темноту квартала. Я могу объяснить механизмы, но вряд ли это будет для тебя наглядно. Однако наглядное ощущение острова из окна моей небережной комнаты, усиливающееся по мере уединения, когда в сумерках она качается у кораблей и близких доков, заставляет подозревать и другие, ещё более невероятные совпадения, попадания… на которые, впрочем, я не притязаю, мой дорогой, посылая тебе свои вести – издалека.
И без того я уже показался тебе сошедшим с ума в одиночестве и растерянности среди дикой охоты… Но поверь, я не блуждаю по пустоши, как шалый Херлекин, исступлённый своими призраками. Как и прежде, моя жизнь уверена дружбой, а прогулки отмечены милыми лицами, ароматами привычных уголков и мимолетным уютом, – хотя прежние разговоры, зависимости, ревность, определявшие наши связи, утихли, уступая новой, как будто скрытой симпатии. По мере того как уединение скорее сближает, чем разгоняет, на солнечных тротуарах и в иных забавных местах мы оценивающе замечаем друг друга, незаметно обмениваясь любезностями, составляющими наш собственный заговор среди прочих.
Не знаю, насколько прав был византиец, ограничивший верные проявления дружбы болтовней и совместной жратвой: если так, то вышло застольное время и всё кончено между нами. Вспоминая прежние стихи и беседы, – всегда невразумительные, как и сводившая нас вместе зыбкая сопричастность, – и все пережитые мной упоительно слепые блуждания, я теперь посмеиваюсь, что не среди нас оказался Кадм, плутающий по своему острову в поисках прекрасной Гармонии… Мы были скорее светляками от лампы, затеплившейся в зале на время очередного бездействия, потом разлетевшиеся. У самых колыбелей в Ленинграде, в декорациях иногда сгнившей, иногда недостроенной марины – простые страхи одевались во все платья и маски, под скрипучий ветер опереточного колеса разыгрывая свои интермедии, обживая и заговаривая мир, который не был нашим. Увы, сейчас поиски хлеба намного отвлекли нас от этого ритуала, и новые угрозы, непривычно животные и бессвязные, расстроили наше согласие. Исчезли и былые ложи наших собраний: в эти чужие дома теперь кое-кто селит очередных чудаков, и так проживают. Кое-кто сами, подвывая покойным страхам, как ученики лекаря, вступают в уличные спектакли, в оранжевых тогах и в мешковине, голые и лохматые, звякающие бубенцами. Впрочем, и про многих других непонятно, лоскутная бедность или этот новый животный страх выставляют их в таком пёстром, вызывающем виде. Но что касается моих невольных спутников, то здесь свои особые намёки и взаимность вызывают позы, загадывающие ребусы дней.
Одно за другим бесконечные разочарования складываются в пейзаж наших мест, чарующий природной игрой фантастических миров. Каждый раз следуя за ними со страстью влюблённых, но способные расставаться, мы уверились в том, что сама причина наших похождений и есть тайна, всегда желанная и не узнаваемая в абрисе очередного романа, а поэтому заметная только лишь в очертании его окружающем, как будто замысел, едва проступающий для нас в случайных уроках.
Итак, забываясь до смеха, испытывая множество бесполезных усилий, сводящее наши метания, мы с утра выходим из дома, не зная, куда вернёмся. Сперва озираясь в поисках извинения, ещё наталкиваясь на вчерашнее и пряча глаза, мы сами не замечаем, как все наши реплики скрадывают жадные вздохи, увлекающие в круговорот капризного танца, в который мы переходим и теряемся среди пестроты, драки базара, наконец на свободе. Мы бродим, даже не разглядывая курьёзные выпады прохожих сцен, в безопасности из‐за сознания нашей никчёмности, на всё готовые… Калейдоскоп наших дней заключается не в переменах, а в чисто плотском упоении духа, которое возрастает с каждой новостью за углом, раздражающей жесты этого, можно сказать, движимого стыда. Время от времени развлекаясь гаданием, мы вычерчиваем на карте города наши взаимные траектории прогулок за день, и их линии рисуют фривольные, дерзкие узоры, превосходящие все мыслимые схемы порнографии. Когда мы вечерами, каждый в своём уединении, разбираем наши богатые собрания этих весёлых картинок, то всегда находим, что подлинное возбуждение вызывает у нас даже не жаркий момент, а самый образ его двигателя, закрученный в самораспаде двуполого отправления и вместе с тем так грубо изображающий наши рассеянные попытки, слоняющиеся по Петербургу навстречу разве что смерти. Как будто листая старинный альбом «Путешествия денди», где герой, гонимый по Сахаре, через горы Тибета и за океан, везде испытывает столицы, веси и парадизы, каждый раз попадая в новые переплёты взаимной позы. Возможно, ощущение подобного труда и облегчает наши привычки, одинокие и непорочные; мы утоляем своё любознание походя, изредка встречая друг друга как ангелы, вестники общей и тайной связи. Мы узнаём эту связь по фигурам нашего гадания и в их симметрии на карте, заставляющей нас возвращаться к отправной топографической канве, разыскивая её возможный смысл.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Василий Кондратьев Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres] обложка книги](/books/396740/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass-cover.webp)
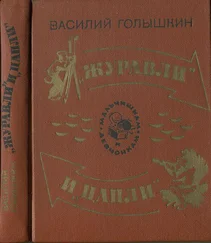

![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](/books/211190/vasilij-lebedev-zolotoe-runo-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)




![Александр Кондратьев - Сны [Романы, повесть, рассказы]](/books/396149/aleksandr-kondratev-sny-romany-povest-rasskaz-thumb.webp)
![Леонид Андреев - Повести и рассказы [litres]](/books/401954/leonid-andreev-povesti-i-rasskazy-litres-thumb.webp)
![Вячеслав Кондратьев - На поле овсянниковском [Повести. Рассказы]](/books/417450/vyacheslav-kondratev-na-pole-ovsyannikovskom-povest-thumb.webp)

