Однако в моём собрании остаётся многое, что я не надеюсь когда-нибудь опубликовать. Это прежде всего многочисленные импромптю на русском языке, где авторство затруднено. Их резкое несоответствие принятым литературным нормам и бесплодные попытки сличить их по существующим архивам самиздата и по страницам антологии «Голубой лагуны» значимы и наводят на обобщения о характере и смысле коллекции в целом. И это двояко. Нужно ли мне понимать себя как хранителя небывалой библиотеки, охватывающей, кроме наличных произведений литературы, замыслы и несохранившиеся творения и (возможно) ещё только подспудные произведения будущего? Или же я стал жертвой иллюзии, сомнительных и бессмысленных совпадений, происходящих в непредсказуемой работе случая?
V
Вряд ли невежество и бессилие сделали мою тихую жизнь и одинокий промысел. Мой опыт достаточно богат и своеобразен, чтобы существовали немыслимые для меня вещи. Кроме того, я человек всячески деловитой жизни, с многосторонними интересами и способностями, как говорится, на все руки. Но их противоречия или неудачи привели, вероятно, к однообразию моих сегодняшних занятий, к труду, затрудняюсь сказать, прожектёра или мемуариста. Мои записи могли бы всё же оказаться полезными как исторический документ. Однако боюсь, что невероятный в чужих глазах опыт и личная дерзость делают такие намерения сомнительными и бесплодными. Таким образом, мои усилия выражаются только в моём усиливающемся уединении, к которому обязывают. Если бы не телефон, я сравнил бы себя с наёмным анахоретом при частном английском парке классической эпохи. Даже мои гости видят во мне немую фигуру из кабинета.
Но вместе с тем записи, разложенные здесь на столе, свидетельствуют о некой жизни помимо меня: о жизни, к которой я причастен случайно и которой всего лишь следую, да и то слишком чутко и спесиво. Неужели моё одиночество так типично, что даже здесь я не один и неоригинален? И какова должна быть судьба этих записей, с которыми я уже настолько отождествил себя? Мне следовало бы завещать сжечь их, как личный дневник, или же опубликовать, как записки. Но что, если они, как и я, оказываются самостоятельными, замкнутыми существованиями? Тогда мне нельзя подписаться под ними, и стыдно принуждать к моему заточению. Я запечатываю их в бутылки, как кораблики, и отдаю на выбор плавающих и путешествующих.
<
1993 >
При запутанных обстоятельствах 91 года, когда сама надежда, кажется, оставлена «до выяснения обстоятельств» (тех самых, которые редактор у Честертона записал поверх зачёркнутого слова «Господь»), нет ничего лучше рождественской истории на американский лад. Не потому, конечно, что из пристрастия ко всяческому плюрализму и Соединённым Штатам мы скоро, наверно, запутаемся в точном числе праздника Рождества. Просто история, связанная с Романом Петровичем Тыртовым, петербуржцем, столетие рождения которого скоро будут повсеместно отмечать в Америке и в Европе, составляет саму сказку мечты, процветания и звёздного блеска, легенду, которой мы любим предаваться, полёживая у окна на западную сторону. Нам не хочется верить в сказки, но воспоминания и сохранившиеся иллюстрации можно, ничего не выдумывая, перемешать так, чтобы вышел примерный калейдоскоп.
История начинается в Петербурге, в четвёртом доме по Зоологическому переулку, недалеко от крепости. Впрочем, по адресной книге спустя почти вечность трудно сразу найти то, что нужно: Тыртовы были известной фамилией военных и моряков, среди них были и генералы, и адмиралы, как отец Романа Петровича. Мальчик рос в имперской столице, её роскошество, вольные летние месяцы в усадьбе, тихие прогулки по богатым коллекциям Эрмитажа, мама, дама того самого типа, который парижские художники начала века прославляли как Les Elegantes, любившая во всём вкус и моду, всё развивало в нём лёгкий, мечтательный нрав, приглашающий к таким путешествиям, которые начинаются как со страниц видовых альбомов из отцовской библиотеки, картин Сиама, Индии и Персии (говорят, что персидские сады дали само название «парадиза»), так и журналов мод с их светским, неудалённым блеском, фантазией очевидной, сочетающей красоту, волю и, разумеется, успех. Больше всего этот мальчик любил рисовать, он и буквы выучился рисовать, как картинки, такие же, которые рассматривал в своих любимых маминых журналах, где авторства в те времена не чуждались ни Бакст, ни Кузмин. Возможно, для него всё началось тогда, когда он шести лет нарисовал платье, которое, как это было ни чудно, захотела и сшила себе мама. Когда мальчик подрос, он стал ходить слушателем к Репину, а рисунки посылал в «Дамский мир». Этот журнал так охотно печатал его модели и фантазии, что дальнейший путь юноши определился. Вступив на этот путь, он был вынужден отказаться от своей осенённой боевыми знамёнами фамилии ради нового nom de guerre, которым к девятьсот двенадцатому году стало «Р. Т.», Эрте. В столетие Бородинской битвы г-н Ромэн де Тиртофф оказался в Париже, рекомендованный как корреспондент петербургского «Дамского мира», с запасом рисунков, моделей и всяческих намерений.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Василий Кондратьев Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres] обложка книги](/books/396740/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass-cover.webp)
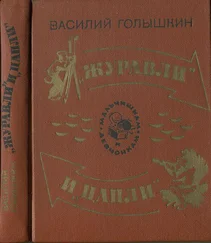

![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](/books/211190/vasilij-lebedev-zolotoe-runo-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)




![Александр Кондратьев - Сны [Романы, повесть, рассказы]](/books/396149/aleksandr-kondratev-sny-romany-povest-rasskaz-thumb.webp)
![Леонид Андреев - Повести и рассказы [litres]](/books/401954/leonid-andreev-povesti-i-rasskazy-litres-thumb.webp)
![Вячеслав Кондратьев - На поле овсянниковском [Повести. Рассказы]](/books/417450/vyacheslav-kondratev-na-pole-ovsyannikovskom-povest-thumb.webp)

