Прямо под окном комнаты, доставшейся мне от Самарина, были трамвайные пути, а впереди на виду высилась поросшая кустарниками и бурьяном железнодорожная насыпь, и за мостом её переезда была видна уходящая между холмов аллея парка. За этими холмами угадывались разделённые густыми рощами, прудами и системой каналов корпуса домов, памятные урочища, фермы, выглядевшие в этом лесу как иллюзия воздушного театра, которую вдалеке продолжал вид на город с новыми башнями и проспектами: непонятно, вторгается ли этот город в лес или перспективы его зданий тают на глазах, выдавая непроходимую чащу. На краю этого фантомного города и, с другой стороны, унылого гетто заводских кварталов я ощущал себя в безопасности камеры, в промежутке между майей и уверенной жизнью, из которой время выкуривает суть. На стене были перекидной календарь за 1982 год и репродукция с картины в неоромантическом вкусе, в сумерках напоминавшая круглое, не то выпуклое, не то вогнутое, зеркало, отражающее нечто своё. В комнате не было лампы, и ночью на сквозняке бумаги, разложенные по фанерному столу у самого окна, как бы тихо скреблись и пищали. Собственно говоря, вся библиотека Самарина и заключалась в ящике этих бумаг – листков и всяческих бумажек, – с обрывками записей, выписками и просто каракулями: ничего целого, ни одной понятной подробности.
С тех пор я не возвращался назад, туда, где исторические красоты, способствующие, судя по всему, раскрытию личности, не дают мне зато радостей тихой и частной жизни. Я не отказываюсь от наследства и от воспоминаний, но должен признать, что открытие из года в год всегда нового наследия и новой генеалогии заставляет меня искать своё подлинное происхождение во мраке стыда. В «новом городе», где я поселился, передвигаясь с квартиры на очередное место, я никогда не узнаю в новоселье ничего от старого, хотя и не уверен, далеко ли это я перебрался или это нечто изменилось со временем. Я даже не могу назвать себя жителем центра, окраины или пригорода этого метрополиса из вполне самостоятельных частей, отличающихся только природой и архитектурой и составляющих некий архипелаг. Если бы я сохранил в себе дерзость ребёнка, жить здесь и было бы счастьем детства, когда всё находка или изобретение. В метро, замечая за окнами мелькающие во мраке тоннеля двери, я спрашиваю себя, нет ли за ними пути: мне кажется, что я каждый день слепо проезжаю по неузнаваемо чуждому городу, хотя замечаю тот, который старательно удерживаю ещё в памяти.
III
Не знаю, что была для меня эта моя комната, кроме удобного помещения для времени, которое я мог переждать, сидя или лёжа на диване, иногда нетерпеливо прохаживаясь. Сперва ненадолго, днём или ночью, чтобы прийти в себя; постепенно я стал прибегать к ней всё чаще, несколько раз по часу и больше в сутки, и так до тех пор, пока я не начал проводить здесь день за днём, только изредка выбираясь на улицу за кофе и бутербродами. Не могу сказать, что с тех пор эта комната изменилась: однако, просыпаясь, я иногда застаю за окном новый вид, а спускаясь на улицу, я, бывает, не могу найти моего кафе или магазина и возвращаюсь домой голодным. Но чаще всего наутро какой-нибудь особенно приятной ночи я с трудом узнаю самого себя в зеркальце, которое достаю из секретера, чтобы привести себя в порядок. Меня удивляет то, что ни один из моих редких друзей не замечает, кажется, этих разительных перемен моей внешности. Похоже, что со временем я превратился в новейшего Дориана Грея, чудом уцелевшего после своей катастрофы. В таком случае я достаточно умелый имперсонатор, которого выдают только зеркала и тень.
Может быть, поэтому до моего слуха иногда доносит то, чего я не вижу ни наяву, ни во сне, как будто бы я могу испытывать ещё многое, о чём не подозреваю. Это началось, когда я вёл ещё вполне занятую и светскую жизнь. Однажды, вернувшись домой после весёлого вечера, я сразу же упал спать на диван, и во сне передо мной всё ещё мерцало то же танцующее и громкое застолье многочисленных гостей, чьи голоса постепенно сливались в однообразно резкий щебет, в котором я мог различить лингвистические пируэты, рождающие чрезвычайные метафоры, в то время пока картина меркла прямо на глазах, как зал перед концертом. Тут я проснулся от какого-то толчка и сел, ещё ничего не понимая вокруг, оглядывая комнату, с пока непонятной головной болью. Это щебет, когда я очнулся, не перестал и звенел у меня в ушах, как глухая неотвязная мантра. Мне слышались то понятные, то непонятные или совсем неразличимые слова, иногда в скомканных фразах, в которых проскакивали просто несусветные фонемы. Так бормотало, однако всё тише, сливаясь с шумом, доносившимся из окна, и потом ещё различимое в этом шуме, хотя бы как отзвук в памяти. Наконец я овладел собой и, побродив по комнате, пришёл к тому, что от алкоголя со мной ночью случился припадок музыкальной эпилепсии. Сейчас, судя по рассвету, было около пяти утра; я привёл себя, как всегда, в порядок, и отправился из дома на воздух, в парк; прямо передо мной, лязгая и раскачиваясь, проехал ранний трамвай; когда я уже направлялся по аллее, сверху по железнодорожному мосту прогрохотал первый поезд.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Василий Кондратьев Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres] обложка книги](/books/396740/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass-cover.webp)
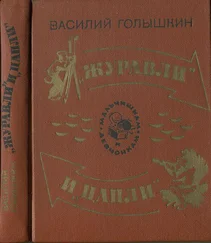

![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](/books/211190/vasilij-lebedev-zolotoe-runo-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)




![Александр Кондратьев - Сны [Романы, повесть, рассказы]](/books/396149/aleksandr-kondratev-sny-romany-povest-rasskaz-thumb.webp)
![Леонид Андреев - Повести и рассказы [litres]](/books/401954/leonid-andreev-povesti-i-rasskazy-litres-thumb.webp)
![Вячеслав Кондратьев - На поле овсянниковском [Повести. Рассказы]](/books/417450/vyacheslav-kondratev-na-pole-ovsyannikovskom-povest-thumb.webp)

