(скажи меня, повтори, как сказала ему
—
Луна стоит сильно и высоко. Жабы из камня
сурьма в плеске: прелестный лик омута
взгляд луны, летучей по зеркалу озера (это было прикосновение. Природа не больше, чем ты есть. Мы, казалось, в одном теле: найди отражение и соответствие. Мыши, жаворонки на закате воды, в паутине. Часовой луч пруда. Чёрная, когда я ныряю, морока рукам тлеет в холоде
скользкая тишина лангуста. Не рак, женщина чешуёй многих сосцов, узкий зрак совиного глаза. Дерево. Гладкий, белый и бородатый, прыгал с саблей по берегу. Из-за дуба другой с воплем всадил ему редьку в задницу. Тот упал.
Как истошные псы, выли, уставив косматые морды.
Игорный круг стола поднял ладони.
И гаер, размалёванный под тебя, крался в пляс. Зал, до люстры, был разрисован, по-индийски, змеиным орнаментом совокупления: север и юг, части света, аллегории и двенадцать созвездий для порядка системы. Соответственно, публика. Дюжий мужик, негр, и накрашенный юноша, обнявшись, квакали, шагая «лошадкой». Сова сорвалась и летела
в чёрной глади воды узнала её: это
—
я? голос был так отчётлив:
«Я, марка и дыхание Петербурга, карта соответствия судеб, чудесных и неизменных: и самоубийство, и странная, сумеречная любовь. Нет ни меня, ни тебя – не то, что избегает внимания, сгорая пожаром в чаду дивного, нового соединения».
—
Ты вышла, а я, с зеркальцем, жду тебя на диване в папиросном дыму.
9
Кому не спалось от пустующих стен: за ними другие пристрастия; «вчера» ушло дальше того столетия. Любовь стала памятью лучших дней, когда всё было цвет, вкус, запах. Где мы, где они? Жизнь была нужна, чтобы пустое зрение наполнить призраком: так и картина в зале, летучей вчерашней дымкой. Разные панели, цветы и золото: атлас и бархат, светло и ветер. Никого нет, и всё на своих местах; тихо и звонко. Золото волос, танец в теле: хрусталь бьётся, за ней паркет, дальше – ветер и горизонты. Любовь была только воспоминание лучших, неведомых дней. Или минут? Ни стен, ни пейзажа: одна девушка среди криков далёких вещей. Вот и всё
<
1990 >
Кинг Фишер (р. 1946) живёт в Бостоне. Американский прозаик и славист. В прошлом году посетил Советский Союз.
В биографическом словаре «Новейший Плутарх» под редакцией Льва Львовича Ракова остался неуказанным Георгий Лаврович Бремель, петербургский механик и автодидакт. Причины этого политические: Бремель, неизвестно куда исчезнувший в годы Гражданской войны, был настоящим убийцей Моисея Урицкого. Хотя бы поэтому задерживаешься на его необычной жизни, тем более что даже ко времени создания «Плутарха» её следов практически не осталось.
Георгий Лаврович был сыном Лавра (Лоуренса) Карловича Бремеля, обрусевшего англичанина на имперской службе. Его родней были, конечно, военные.
Васильевский остров, в немецком квартале которого он провёл детство и юность, – вообще издавна место загадочное и романтическое. Когда-то за академическим фасадом, за промышленной частью шли тишина, неизвестность и уединение. Малые острова славились ведьмачеством, Гавань – разбоем и авантюрами. На одном, православном, Смоленском кладбище – чудодейственная часовня Ксении, на другом, лютеранском, лежит Фридрих Максимилиан Клингер, друг и старший соратник Гёте, в чине русского генерала и кавалера. Видимо, эта natura loci заставила Георгия Лавровича, оставив курс, выйти на вольные хлеба поэта и журналиста.
Его стихи, точнее, несколько поэм в прозе не замечены и забыты. В них виден человек символистского настроения, не без влияния Раббе и Алоизия Бертрана, младших французских символистов.
Журналистика, напротив, была успешной: как очеркист и хроникёр столичных изданий, автор «Всемирной иллюстрации» Георгий Лаврович обрёл независимость, вслед за духовной, материальную. Его удачами были очерки нравов реликтовых народностей, научно-техническая хроника; для нас здесь важно его устремление, во-первых, к открывательству и, во-вторых, к методике: это объясняет его первые заметки в журнале «Врач», начавшиеся как случайный заработок, но вскоре вполне определившие дело его жизни.
Снова нужно вспомнить особенности среды, которая в то время его окружала. Близость музеев, как Кунсткамера и зоологический, академических лабораторий, где, как известно, у него были приятели и соседи, неиссякаемые в Петербурге изобретатели и энтузиасты, не могла не направить область знаний и интересов к обманчивой в восхитительной простоте механике, к экстравагантности физиологии.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Василий Кондратьев Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres] обложка книги](/books/396740/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass-cover.webp)
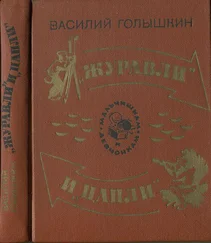

![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](/books/211190/vasilij-lebedev-zolotoe-runo-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)




![Александр Кондратьев - Сны [Романы, повесть, рассказы]](/books/396149/aleksandr-kondratev-sny-romany-povest-rasskaz-thumb.webp)
![Леонид Андреев - Повести и рассказы [litres]](/books/401954/leonid-andreev-povesti-i-rasskazy-litres-thumb.webp)
![Вячеслав Кондратьев - На поле овсянниковском [Повести. Рассказы]](/books/417450/vyacheslav-kondratev-na-pole-ovsyannikovskom-povest-thumb.webp)

