Мне особенно понравилось сравнивать первый и последний куски. В общем-то я давно думал, что реализм (особенно советский) обаятелен только тогда, когда производит впечатление глубокой посттравматической афазии. Это я серьёзно. Примерно то же самое, что впечатление глубокой скабрезности в советских интерьерах «великой эпохи» и от академической живописи. Я имею в виду не просто скабрезный анекдот «духа мест», а какую-то тотальную скабрезность, которую так хорошо чувствовал Гомбрович. Помнишь наш разговор у моста о разнице между Русселем и соц-артом?
И – увы-увы-увы – всё это меня бы не так интересовало, если вокруг себя я бы видел хоть что-нибудь кроме афазии в её многочисленных формах.
Ну всё, страница кончилась, обнимаю тебя ещё раз,
твой ВК
14 августа 1997 года
Юрочка,
я тебе пишу и умираю от жары. Поскольку погода бывает настолько же личной, как и всё остальное, это просто такая жаркая лень, в которой нету ни новостей, ни прогулок с друзьями, ни поездок за город, ни просто задумчивости за столом у окна – в общем, ничего такого, что происходит в более тенистых и свежих уголках жизни. В этом смысле мне всё равно, зима это или лето. Как зимой тебе иногда во время прогулки по парку открывается вид на волшебно заснеженную долину реки за непроходимыми сугробами. Летом нет денег якобы, и я совершенно разучился гулять где-нибудь в одиночестве, кроме как в собственных мыслях.
Как ты заметил, я уже с месяц просиживаю весь «в работе» и неплохо отделываюсь этим от кого угодно, кроме самого себя. Я очень надеюсь так протянуть как можно дольше. Собственно, я не способен на то, что мне не свойственно , и мне поэтому абсолютно всё равно, что писать . Это то же, что моё рисование, и я ещё никогда не видел настолько ясно, как этот почерк похож на пепел, которым я умудряюсь засыпать весь пол под столом. Всё сжигающая кропотливость и то неуловимое, куда свиваются те слова, которые ничего не значат в этой жизни. Собственно, тот наркотик, который я называю «французской литературой», «риторикой», «мастерством» и т. п.
Я взялся за три дела сразу, и очень рад, что мне не пришлось придумывать по крайней мере два из них. Мне не так одиноко – не в том, конечно, смысле, в котором «поэты» обычно жалуются на своё какое-то особенное одиночество, хотя совершенно не отличаются им от всех людей вообще… Я имею в виду, скорее, то глубокое сомнение в собственном существовании, которое возникает как раз тогда, когда люди тебе вроде бы улыбаются. Когда-то очень давно моя бывшая жена сказала, что самая сволочная черта моего характера – это внушать надежду , и была права. Я однажды понял, что меня стала связывать с другими людьми «моя какая-то совершенно другая жизнь» и что совершенно бессмысленно даже думать о том, чтобы жить как они. Все радости жизни (мысли о любви, о доме, о путешествиях и т. п.) заменила стилистика. Я всегда был слишком чувствителен ко вкусу жизни. В итоге я пришёл к тому, что, внушая его другим, ты переживаешь намного острее, чем «на самом деле». Наверное, если я ещё вижу какой-то личный смысл в «литературе», то это просто «слова» могут воздействовать на человека тогда, когда все другие чувства уже отказывают.
Я так, видимо, расчувствовался от собственного письма, что в тот же вечер пошёл и надрался у Кати в гостях с нею, с Матвеевой и с Захаровым. Я был прав, кстати, что на улице оказалось прохладно, и в мысли поэтому всё время вторгалось какое-то сновидение. Уже глубокой ночью мы пошли гулять в темноту по Лесному парку, как будто в другое время. На следующий день я был наказан жуткой головной болью и книжкой «Эрос невозможного», которую пришлось прочесть в поисках хотя бы каких-то зацепок между сюрреализмом и русской действительностью, для статьи о Бретоне. Кое-что интересное нашлось в пересказе статьи эмигрировавшего русского психоаналитика Николая Осипова «Революция и сон» (1931): на мой взгляд, замечательная попытка противопоставить «сновидению» не «реальность», а «норму» жизни. Я не знал и того, что Лурия начинал, как психоаналитик… Вообще, я позволил себе уже три дня бить баклуши с переводами, освежая свои познания в психологических и лингвистических инсайтах десятых-тридцатых. Например, знаменитый Поливанов (в котором я поэтому начал склоняться видеть этакого русского Эрвея Сен-Дени) был уже героинистом, когда обдумывал свой пресловутый «Свод поэтик». Как видишь, я снова попал в учёную компанию, потому что от кого ещё в русской культуре дождёшься какого-то рационализма, не говоря уже о том переходе от «автоматизма» к «системе совпадений», который у любого уважающего себя русского любителя художеств до сих пор вызывает снисходительно-испуганную усмешку… Но всё равно остаётся не забывать что-то главное, что лежит в стороне от «художественных» и «научных» целей.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Василий Кондратьев Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres] обложка книги](/books/396740/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass-cover.webp)
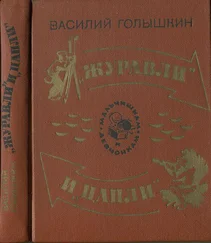

![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](/books/211190/vasilij-lebedev-zolotoe-runo-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)




![Александр Кондратьев - Сны [Романы, повесть, рассказы]](/books/396149/aleksandr-kondratev-sny-romany-povest-rasskaz-thumb.webp)
![Леонид Андреев - Повести и рассказы [litres]](/books/401954/leonid-andreev-povesti-i-rasskazy-litres-thumb.webp)
![Вячеслав Кондратьев - На поле овсянниковском [Повести. Рассказы]](/books/417450/vyacheslav-kondratev-na-pole-ovsyannikovskom-povest-thumb.webp)

