Всё так тихо и мирно в деревне
никого не осталось
ты одна
надолго ли ты приедешь
и уедешь ведает Бог
только звери будут ходить по заросшей дороге
но пока ты сидишь здесь и смотришь в окно
так тепло и спокойно тебя вспоминать
словно сел у окна сердцем оттаял
со страниц пожелтевших
Соломон удивляется мудрости жизни
влюблённый
<* * *>
Из квартиры сегодня всё вынесли, кроме
фотографий и писем. Хотя и светло,
я не знаю, как мы проживём в этом доме
и увижу ли что-нибудь в это окно,
если каждый в себе здесь хоронит поэта
с угасающим взглядом вернувшись под вечер;
неужели всё, что осталось, – это
сигарета в потухших губах и ветер
в волосах твоих, милая?
Помнишь ли – таял снег.
Где-то в Павловске. Лес на припёке чернеет.
Адониса
мы, уважая обычай
хороним.
«О,
Намаан, Намаан!»
– и в вертепе Венера проходит —
«Мой любимый,
«весной
«ото сна так душа пробуждается.
«Милый, встань!»
И с цветами
следом капельки крови смывает ручей.
Оживает картонный Адонис.
Прозрачной водой
из-под снега проснувшись умоются травы;
где-то флейтой
заплачет по тёплому времени ветер
в заколоченных ставнях.
Что ж, пейте вино
оставляя воскресшему дань возлияния.
И свидание утром назначьте
чтобы жаркое время прошло незаметно.
И пусть снова темно.
Пусть вертеп закрывается. Осень.
Разве, милая, это не так? Ведь пора пробуждения
снова сменяется сном —
снова в этой квартире,
снова холодно, ветер…
Себе на беду,
все страдания бедных влюблённых теперь понимая
изменением времени года – куда ни пойду,
всё мне кажется – этим же склоном иду, и не знаю
где мне алые капли искать.
25 октября 1988 года
Уважаемый Аркадий (я до сих пор не знаю Вашего отчества, так и не могу узнать и угадать хотя бы по начальной букве – а ещё грешил на Вашу машинку в первом письме).
Я очень благодарен Вам за письмо, которое пришло тем более неожиданно, что я совсем и не ждал его – рассчитывал разве что на Ваше мнение от моего. Меня оно очень обрадовало, что и понятно: по Петрозаводску ударили снега, в городе творятся такие дела, какие были и в Гамельне, а сейчас творятся по всему Союзу – и о которых в письмах не пишут; а я сидел у себя «за забором» и работал над вещью, которая как раз была продолжением какого-то невнятного разговора с Вами, т. е. скорее адресована Вам, чем посвящена. Я не знаю, имеет ли она право на существование вне своей эпистолярности – её прямая связь с Вашим стихотворением так очевидна. И не мог освободиться от него, не написав. Мне очень трудно Вас понять правильно – вернее, правильно почувствовать – в душе: настолько время Вашего возраста непохоже на моё; быть может, только из‐за двух строк в письме я почувствовал это так явно. У меня же, достаточно легко догадаться, – внешняя, осязаемая гармония окружающего, заключающая в себе внутренний хаос и брожение… От этого так дорого и будет когда-нибудь узнать, что именно, какую досаду, Вы увидели в моих текстах – там, кажется, этих досадных мест больше, чем надо – и разве что не можешь согласовать рассудок с физиологией. Кажется, что много и этой сырой «физиологии» в том, что я сейчас посылаю Вам; когда-то, до совсем недавнего времени мне доставляла удовольствие эта физиологичность и даже «сезонность» в восприятии жизни – после книжного детства и закованности: а сейчас не знаю, не обернётся ли это пустотой и смертью для всякого движения вперёд. Я вспоминаю мысли Голосовкера о мифе человеческой жизни – похоже ли это на библейский страх «отпасть от Бога»? И действительно ли падение и искус так истинны? Не всегда верится в то, что следует из размышления.
По крайней мере, когда я ещё буду в Ленинграде – месяц ли пройдёт, больше – а написанное письмо нужно так и послать… Вы умеете видеть так, как я не могу, и это – лишнее подтверждение тому.
С уважением,
Искренне Ваш
Василий
Белле Матвеевой. О лемурах
1993 год
Дорогая Белла, хочу поделиться с тобой некоторыми мыслями. Только неизвестность прекрасна по-настоящему, и воображение связывает её со множеством духов прошедшего, которые напитывают искусством окружающую жизнь. Говорят, что «художник создаёт мир», но точнее – мы просто не знаем, что населяет поэтическую атмосферу действительности, которую внушил нам художник. Кажется, что это некие призраки из дремучей ночи внезапно промелькивают во встреченных лицах, иногда пробегут орнаментом или оживают вещью. На самом деле ничем, кроме таких призраков, проблески неведомого для нас быть и не могут. По своей сути мечта – это недорисованный портрет самого себя, в котором поэтому что-то оказывается смешно, что-то – загадочно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Василий Кондратьев Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres] обложка книги](/books/396740/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass-cover.webp)
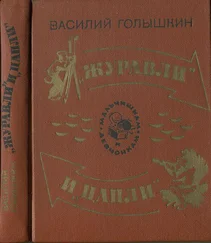

![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](/books/211190/vasilij-lebedev-zolotoe-runo-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)




![Александр Кондратьев - Сны [Романы, повесть, рассказы]](/books/396149/aleksandr-kondratev-sny-romany-povest-rasskaz-thumb.webp)
![Леонид Андреев - Повести и рассказы [litres]](/books/401954/leonid-andreev-povesti-i-rasskazy-litres-thumb.webp)
![Вячеслав Кондратьев - На поле овсянниковском [Повести. Рассказы]](/books/417450/vyacheslav-kondratev-na-pole-ovsyannikovskom-povest-thumb.webp)

