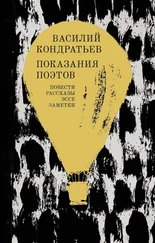В предисловии к сборнику «Эстетическая хирургия» М. Яснов приписывает этой прозе несуществующие, пожалуй, заслуги. Аполлинер не был в ней ни особенно оригинален, ни глубоко эрудирован (однажды, устав от вопросов молодого Бретона, он не без вызова заявил ему, что «чтение не занимает в его жизни такого уж большого места»). Хотя лучшие образцы его беллетристики и были более простодушным изложением того, что уже создавали, например, Шарль Кро, Жюль Лафорг и Жарри (не доходившие, впрочем, до широкого читателя), именно это и придаёт интерес рассказам поэта, которого Бретон называл «воплощением лиризма», считая личное общение с ним «редкостным счастьем». Спешность, с которой Аполлинер обращался к излюбленным в кругах парижской богемы прекрасной эпохи эксцентричным сюжетам и героям, окрашенным в тона сновидения и чёрного юмора, сделала эти рассказы наиболее живыми свидетельствами его невероятной поэтической интуиции, широты кругозора и переимчивости, то есть – основы его величия в истории культуры. Оставаясь такой же фигурой из парижского кафе XIX столетия, как Добряк Тео – вождь романтиков Готье – с его всеядностью, неразборчивостью и даже лёгким хамелеонством, Аполлинер именно благодаря этому достиг того безусловного авторитета, который поставил его у истоков сюрреализма, совершившего переворот к поэзии в сложившемся к первой четверти XX века соотношении искусств.
С тем чтобы показать, как всё-таки «выдумали колесо», нужно напоследок обратиться к пьесе «Груди Тиресия». Аполлинер впервые употребил слово «сюрреализм» в 1917 году в споре о знаменитой постановке балета Кокто «Парад» у Дягилева; вместе с Пикассо и Сати Кокто создал, как он заявил, «реалистический балет», светский успех которого вызвал возмущение левой художественной общественности, увидевшей в нём профанацию нового искусства. В ответ на «реализм» авангарда, приобщившегося к буржуазности, Аполлинер с помощью художника Сергея Ястребцова в следующем месяце выступил с собственной «сюрреалистической» манифестацией – пьесой, которую определил как «современное, простое, быстрое искусство, с такими поворотами и преувеличениями, которые необходимы, если хочешь поразить зрителя». Друг Аполлинера Андре Дерен уверял, что её сюжет ему подсказало собственное заболевание, выделения из сосков. Первая же сцена вызвала бурное возмущение публики, и рыжеволосый молодой человек в форме английского офицера, который уселся в первом ряду и отчаянно скучал, достал револьвер и принялся оскорблять собравшихся. Это был Жак Ваше – последователь Жарри и духовный ментор Бретона. Последнему удалось отобрать у Ваше оружие и помешать ему перестрелять зрителей. Спустя пару месяцев Ваше написал Бретону о своих впечатлениях: «Весь ТОН наших поступков… нравится мне сухим, без литературы и особенно без смысла „ИСКУССТВА“… Мы больше не признаём Аполлинера, ПОСКОЛЬКУ – подозреваем, что он занимается слишком умышленным искусством, латает романтизм телефонной проволокой, не зная, что моторы ЗВЕЗДЫ ещё не подключены!»… Поступок Ваше изменил представления Бретона об «идеальном сюрреалистическом акте»; как известно, в «Манифесте сюрреализма» он заключался уже не в изобретении колеса или велосипеда, а в том, чтобы выйти из дома с двумя заряженными револьверами и палить по прохожим наугад.
<3.> Торнтон Уайлдер . Каббала: Романы / Сост. и пред. Сергея Ильина. СПб.: Симпозиум, 1999. 560 с.; тираж 6000 экз.
Существует замечательное определение: «дачное чтение», то есть роман, который хорошо взять с собой на дачу. В отличие от книг, за чтением которых легко убивать время в поездке или в вагоне метро, «дачное чтение» может и не захватывать воображение, но обязано быть рассудительным, в меру требовательным к чувству прекрасного и приятным во всех отношениях – одним словом, старомодным и поэтичным. «Дачный роман» напоминает об атмосфере не очень дорогого пригородного курорта, с хорошим обществом и с облагораживающим дух привилегированным укладом жизни, где все хотят выглядеть лучше, чем на самом деле. Кроме того, в отличие от дачных романов между людьми, книга всегда завершается благополучно (во всяком случае, для читателя) и остаётся одним из трогательных воспоминаний.
Сергей Ильин не просто хорошо перевёл хороший роман – роман Торнтона Уайлдера «Каббала», – но ещё и очень удачно дополнил его другим, давно уже опубликованным на русском языке, произведением автора, без чего один этот перевод вряд ли увидел бы свет: книги теперь любят издавать «на вес», и иные издания заставляют вспомнить старинный анекдот про купца-печатника, которому один сочинитель продал кирпич, спрятанный в пухлой рукописи. К счастью, Ильин объединил два романа очень уместно и с интригой. «Каббала» (1926) – это литературный дебют Уайлдера, а «Теофил Норт» (1973) – его «последний поклон», тесно связанный с воспоминаниями о начале писательского пути. Разделённые творческой жизнью автора, оба романа примыкают друг к другу по времени действия, а автобиографический подтекст, который не может не просматриваться в первой и в последней книгах писателя, удачно восполняет присутствующую в них недосказанность: к тому же, поскольку главный герой «Каббалы» ни разу не назван по имени, то, переходя ко второму роману, читатель сразу же поневоле узнаёт его в Теофиле Норте. Этот герой уже известен из художественной литературы. Перед нами молодой американец 20‐х годов, сверстник героев Хемингуэя и Фицджеральда, который, как и они, проходит школу жизни в послевоенной Европе, а затем возвращается на родину в разгар «джазового века».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Василий Кондратьев Показания поэтов [Повести, рассказы, эссе, заметки] [litres] обложка книги](/books/396740/vasilij-kondratev-pokazaniya-poetov-povesti-rass-cover.webp)
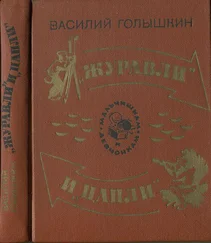

![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](/books/211190/vasilij-lebedev-zolotoe-runo-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)


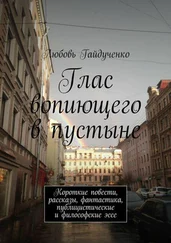
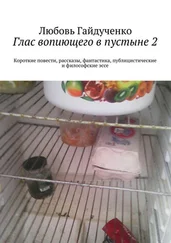
![Александр Кондратьев - Сны [Романы, повесть, рассказы]](/books/396149/aleksandr-kondratev-sny-romany-povest-rasskaz-thumb.webp)
![Леонид Андреев - Повести и рассказы [litres]](/books/401954/leonid-andreev-povesti-i-rasskazy-litres-thumb.webp)
![Вячеслав Кондратьев - На поле овсянниковском [Повести. Рассказы]](/books/417450/vyacheslav-kondratev-na-pole-ovsyannikovskom-povest-thumb.webp)