Одна комната была целиком в застекленных полках с классиками, оттуда выглядывал фотомонтаж мадам Тэтчер, пардон, с мужским орудием, уныло свисавшим из области живота; бюстик (почему я их люблю?) маршала Жоффра, героя Первой мировой, которого пытается мине тировать некий тип со штангой в другой руке; там же вполне благопристойный мальчик Писс из Брюсселя, безликая веджвудская вазочка из Лондона и пепельница с видом Иерусалима, афинская амфора с бурно соединяющимися греческими молодцами. Кристалл с австро-венгерским императором Францем Иосифом на вздыбленном коне из Вены (тут любая созерцательница начинала рыскать глазами в поисках фаллоса то ли у коня, то ли у Франца Иосифа), синий бокал с вензелями из венецианского стекла, из которого я грубовато хлестал водку в праздник Революции, сидя за письменным столом, где красовалась настольная медаль в честь 60-летия ВЧК-КГБ, лично врученная мне Юрием Владимировичем. Пожалуй, все, воздержимся от других деталей.
Итак, после утреннего доклада Марфуши я несколько притомился, прилег на диван и раскрыл книгу Сальвадора Дали «Дневник одного гения». Должен разочаровать любителей ассоциативного мышления: гением я себя не считал (хотя им, наверное, и был — ведь ни один великий при жизни не осознает своего величия, зато пустышки распухают от собственной важности), а книгу получил совершенно случайно в день отплытия из рук прекрасной темно-рыжей дамы.
Небольшой прыжок в прошлое: все началось год назад в петербургской клинической больнице имени В.Г. Соколова, куда я подзалетел из-за… распространяться о болезнях не будем. Однако уверяю тебя, Джованни, что это был не syphilis, превращавший в твое время людей в зловонные скелеты, а ныне излечиваемый двумя уколами в место чуть пониже спины, и не подобные ему болезнишки, а нечто возрастное и благородное, вроде подагры и геморроя.
Звали ее Роза, и познакомился я с ней на квартире своего коллеги, коренного ленинградца Павла Батова, к которому я завалился однажды вечерком покайфовать под джазовую музыку. Паша жил в гостиной дома то ли графа Юсупова, то ли графа Разумовского, прихваченного осчастливленным народом после революции. Тогда жилище богатея превратили в коммуналки, позднее из гостиной с резным деревянным потолком, мраморным камином и шпалерами на стенах Батов сделал двухкомнатную квартиру и даже, пользуясь восьмиметровой высотой потолка, соорудил на кухне второй этаж со спальней для пьянчуг-гостей. Роза, худая, с толстой рыжей косой, появилась случайно с подругой, постоянно облизывающей полные губы (только этим и запомнилась), и доводилась Батову сестрой. Они даже походили друг на друга своими кривыми носами, потом мне это очень мешало: все время казалось, что я покрываю поцелуями своего приятеля, и от этого секс-атака захлебывалась. Да! Худющая! Рыжая!
Не знаю, как выглядели в жизни Беатриче Данте или Лаура Петрарки, но портреты их, которые я имел счастье видеть, Джованни, вызывали у меня лишь отвращение, к таким экземплярам я никогда не прикоснулся бы, даже находясь на голодном пайке в Сызрани. Так что у каждого времени свои вкусы. К тому же закончила она Ленинградский государственный университет и защитила в аспирантуре диссертацию «Монахи Боккаччо как предвестники Реформации». Что? Задрожал от любопытства, мой мессер? Проникся пиететом? Как мы тщеславны даже в райских кущах! Только позднее я разглядел, что Роза прекрасна: ослепительная белозубая улыбка во все белое лицо, покрытое веснушками — уделом рыжих, солнечный пух на щеках, мягкий и щекочущий, жадные худые руки, большая родинка на шее, ближе к груди (между прочим, лифчика не носила, и сквозь прозрачную блузку темнели чуть дрожащие соски, окаймленные рыжими порослями), фигура — удлиненная, костлявая, изломанная, ассиметричная, как на картинах Пикассо. (Уже мои штаны надулись, друг Джованни!)
Умеренно выпили коктейль «драй мартини» (один мой приятель называл эту смесь джина и мартини бабоукладчиком), Батов сел за пианино «Беккер» и виртуозно заиграл Брубека, что-то медленное и ритмичное — в этом пире звуков хотелось раствориться навсегда, и я пригласил на танец Розу, божественную во всей ее рыжине. Танцевал спокойно, словно поедал свою утреннюю глазунью, но вдруг ударило. Словно прожгло насквозь, хотя рыжих я не переносил, и все потому, что в молодости одна рыжая, клявшаяся мне в любви, сперла у меня из бара бутылку куантро. Причем обнаружил я это после того, как отправил ее домой на такси и дал на дорогу один рубль, больше я себе не позволял из принципа. Ударило — и прошло, пролетело стремительно, как скоростной экспресс. Остались лишь ощущение худых, длинных рук, лежавших на моих плечах, и острые запахи мускусного ореха, бесспорно, это был одеколон «Muske», редкий в наших краях, флакончики с ним, завинченные деревянной крышечкой, я встречал лишь на Ямайке и на Гаити, когда выезжал туда для переворотов. Дамы покинули нас к полночи, провожать, к счастью, не просили, и я остался ночевать у Паши. Долго не мог заснуть, в голову назойливо лезло: «Под пирамидой у Хеопса священный бык с коровой е…ся. Представляю, что за вид открывался с пирамид». Почему Хеопса? Остальное понятно.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
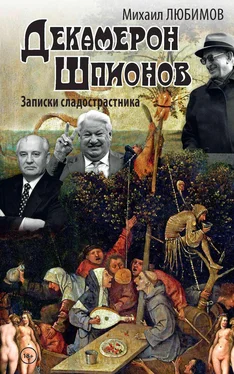

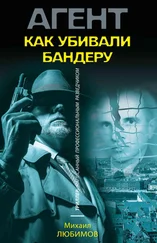







![Михаил Соловьев - Боги молчат. Записки советского военного корреспондента [сборник]](/books/431209/mihail-solovev-bogi-molchat-zapiski-sovetskogo-vo-thumb.webp)