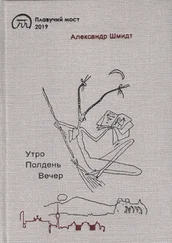— Шерифа? А зачем он мне?
— Значит, ты его не видел. Ах, Доминик, как это жестоко с твоей стороны!
Он ничего не понимал, хотя изо всех сил пытался сообразить, чего она от него добивается.
— Ты еще вчера дал мне обещание.
Вчера? Он каждый день дает ей обещания и тотчас забывает про них, да она и сама почти всегда забывает.
— Ты сказал, что поговоришь с шерифом и потребуешь уволить этого ужасного Бэта.
Бэта? Ах да, вспомнил. Бэт Боллинг. Она обвиняла Бэта в том, что он обливал пикетчиков кислотой, когда грузовик с рабочими, не участвовавшими в забастовке, прорвался через баррикады. Черт побери, трудно уследить за ходом ее мысли.
— Он настоящий кровопийца. Его следовало бы на всю жизнь засадить в тюрьму и заставить читать священное писание! Сколько бед он причинил людям!
Серебряные браслеты на ее запястьях звенели, как тяжелые цепи или наручники. Что ж, пусть произнесет свою проповедь.
— Доминик, если этот человек не ответит за свои грехи, пусть знает, что его ждет страшный суд. Господь милосерд к тем, кто терпит муки на земле, но тот, кто живет в богатстве, будет мучиться в аду.
Она вздохнула, раздув ноздри и полузакрыв глаза, потом произнесла нараспев, словно в трансе:
— Господь не любит гордыни, лживых языков и рук, обагренных кровью невинных, злых сердец, греховных мыслей, лжесвидетелей и тех, кто сеет раздор среди братьев.
Присцилла открыла глаза и поискала взгляд племянника.
— Ты знаешь, Доминик, слова апостола: «Посеешь ветер…» И буря начнется — не сейчас, так потом.
Она дрожала всем телом, и все же в ее голосе не было ненависти. Доминик отказывался понимать подобное смирение.
— Это правда, тетя Присцилла, — вздохнул он.
Но беспокойство уже овладело им. Неужели опять надо хлопотать об устройстве ее в психиатрическую больницу? Он с болью подумал о бесконечных трудностях, которые с этим связаны: консультации у психиатров, оформление документов, расходы… То, что у него были права опекуна, отнюдь не решало всех проблем. Доход, получаемый Присциллой, обеспечивал ей скромное существование, но его едва ли хватит на оплату содержания в частной лечебнице, не говоря уже о дороге, непредвиденных расходах и убытке, который он, человек свободной профессии, понесет, оставив на время дела. Он так и не осмелился сказать Марте, во что обошлось лечение тетки в прошлый раз. А если бы сказал, упрекам не было бы конца. Шахтоуправление заплатило ему тогда так мало, что денег на жизнь едва хватило. Чтобы по-прежнему причислять себя к изысканному обществу тех, кто играет в гольф и ездит в «паккардах», приходилось заниматься частной практикой. Все эти трудные годы он едва сводил концы с концами, всецело завися от милости Юго-западного банка, и все же не злоупотреблял своим положением опекуна.
Острая жалость к Присцилле захлестнула его. Дель Бондио положил руки на ее худенькие плечи и ласково их погладил.
— Я не богослов, тетя Присцилла, но хотел бы спросить вас: разве Христос не призывал возлюбить врагов?
Присцилла крепко сжала губы.
— Пом-м-м-милосердствуй, Доминик! — воскликнула она. — Ты, видимо, не хочешь меня понять. Какие же они враги? Они наши солдаты, наши слуги. Мы им платим, Доминик. Мы платим им за то, что они охраняют наше добро, нажитое нечестным путем, и обрушивают карающий меч на обездоленных. Мы платим им, а они спасают нас от тех, у кого есть глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, и мозг, чтобы понимать. Мы платим им, а они предоставляют нам возможность жить в разврате и болезнях. Мы лелеем нашу слепоту из страха перед тем, что могли бы увидеть. Мы цепляемся за наше безумие, потому что боимся понять. Прости нас, господи! Мы боимся понять, что творим.
Доминик слушал ее с удивлением. Прежде тетка никогда не говорила о своем безумии, и Доминик думал, что она о нем не знает. Но теперь на этот счет не оставалось никаких сомнений.
— Ах, Доминик! — вздохнула она. — Представляешь ли ты, сколько требуется мужества от человека, который не в своем уме и который понимает это?
Ее тусклые глаза наполнились слезами.
— Иногда, когда у нас воцаряется покой, раны перестают кровоточить и меч дремлет в ножнах, рождается соблазн оставить все как есть и надеяться, и верить, что сумасшествие, в конце концов, не сумасшествие и что безумные здоровы, а здоровые безумны. Но вот жизнь прерывает тревожный сон, мчится санитарная машина с трупом, самые близкие и дорогие тебе люди начинают лгать и воровать, и ты понимаешь, очень хорошо понимаешь, что сумасшествие — это сумасшествие, а не мудрость, что меч — орудие смерти, а не щит мира. Господь знал это и учил нас: меч дан человеку не для жизни, а для смерти. Ты сказал об этом шерифу, Доминик? Сказал?
Читать дальше





![Игорь Безрук - И был вечер, и было утро… [СИ]](/books/398499/igor-bezruk-i-byl-vecher-i-bylo-utro-si-thumb.webp)