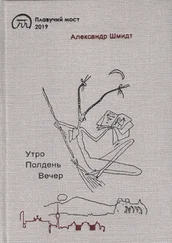Дженни Хамарильо, женщина с мертвенно-бледным лицом и неровными зубами, панически боявшаяся изнасилования, была арестована в конце дня, когда белила свою глинобитную хижину. Она потребовала, чтобы к ней привели двух ее младших детей — мальчика четырех и девочку трех лет. Когда она прибыла в камеру, известь на ее брюках еще не просохла. Дженни билась в истерике, и припадок длился мучительно долго. Ее били по щекам, бранили, но это не помогло. В конце концов пришлось отдать ей и ее детям большую часть бутербродов и молоко, которых они добились наконец после многочасовой борьбы.
Около полуночи прибыла промокшая Долорес Гарсиа с ребенком. Она была так измучена, что не смогла даже рассказать, что с ней случилось. Женщины раздели ее, сонную завернули в одно из одеял и отдали ей целую койку. Даже плач голодного ребенка не разбудил ее. Консепсьон Канделарии пришлось повернуть Долорес на спину и держать ребенка у ее груди, пока тот не насытился, а остальные женщины стали вокруг них тесным кругом, чтобы загородить мать от надзирателей.
Каждую минуту они чувствовали на себе похотливые взгляды тюремщиков, которые подсматривали и подслушивали, что делается в камере, отпускали грязные шуточки, издевательские замечания. Отправление естественных надобностей превращалось в настоящее мучение, женщины корчились от боли, и, когда терпеть больше было невозможно, все, кто не спал, окружали несчастную и громко пели, чтобы надзиратели ничего не услышали. Но это не помогало, надзиратели все равно начинали отпускать отвратительные непристойности.
Чтобы стало немного легче, Лидия Ковач предложила спеть. Она и Елена знали песни славянских авторов, например «Мы жертвою пали» и «Вихри враждебные». Почти все женщины знали старинные песни, которые часто пели на профсоюзных собраниях и в пикетах, но большинство песен пришлось разучивать.
Песни подбадривали женщин и помогали убить время.
Оказалось, Алтаграсия знает много песен о мексиканской революции; женщины удивились, узнав, что у нее есть тетка — бывшая soldadora [158] Боец (исп.).
в отрядах Вильи. Алтаграсия помогла разучить маленькую патетическую элегию, которую исполняли для Каррансы. Потом придумали куплет по случаю убийства Кресенсио Армихо:
Crescencio, Crescencio, tu pueblo te llora;
Tu tragica muerte tu patria deplora! [159] Отчизна, Кресенсьо, тебя не забудет, Народ твою гибель оплакивать будет! (исп.).
Потом кто-то запел монгольскую песню с очень трудным мотивом. И вдруг со стороны первой камеры раздался высокий голос Транкилино де Ваки, воспроизводивший эту мелодию совершенно правильно. Консепсьон вспомнила, что он разучил ее потому, что мелодия эта напоминала песни навахо.
Затем они разделились на три группы, по трое в каждой, и исполнили песейку о бедном мистере Моргане, который не мог заплатить подоходный налог. На этом запас песен иссяк, да и женщины устали.
Некоторые развлекались тем, что загадывали друг другу adivinanzas [160] Загадки (исп.).
, но и это не помогало — слишком все утомились. Понемногу женщины затихли: сидевшие на полу старались задремать, другие стояли, держась за прутья решетки и ежась от холода.
Постепенно в тюрьме воцарилась тишина. Даже помощники шерифа приуныли. Они сиделй в коридоре с винтовками на коленях и курили, прислонясь к стене. Их щеки заросли щетиной. Где-то под полом скреблись и грызли трухлявое дерево крысы. Женщины во сне стонали, вздрагивали и бормотали. Кто-то скрипел зубами.
Но тишина стояла недолго. Холод, голод, жесткие полы и переполненные мочевые пузыри не давали спать, и женщины, потеряв терпение, закричали:
— Нет, я больше не вынесу! Вы что, хотите убить нас?
От этих воплей просыпались остальные.
— Где одеяла, вы же обещали!
— Дайте детям еще молока!
— Чертовы ублюдки, pendejos! [161] Болваны (исп.).
Сами-то вы привыкли гадить на своих матерей!
Пришла очередь Консепсьон занять койку, и она решила не ввязываться в начинавшуюся перебранку.
— Чего тебе надо, пуховую перину? — отвечали полицейские.
— Придержи лучше штаны, шлюха.
— Зачем держать, пускай снимает.
— Мы не против. Приласкай нас!
— Покажись маленько, тетка!
— Эй, мамаша Хэббард, переспала бы со мной!
Мужчины захохотали. Конни повернулась на бок, чтоб было удобнее наблюдать. Она старалась не потревожить маленькую Дженни, лежавшую рядом с ней, и Лидию Ковач, спавшую на этой же койке. Конни казалось странным, что она остается безучастной ко всему и словно выбитой из колеи. Ведь многие из этих женщин — ее близкие подруги. Весь день и всю ночь они вместе наводили порядок в камере, предотвращали ссоры и устраняли возникавшие затруднения. Она пела вместе с ними, донимала помощников шерифа, но все время испытывала какое-то странное чувство отчужденности. Что с ней? Может быть, устала бороться? Может, отбилась от стада? Но ведь это нехорошо! Что сказал бы Хэм?
Читать дальше





![Игорь Безрук - И был вечер, и было утро… [СИ]](/books/398499/igor-bezruk-i-byl-vecher-i-bylo-utro-si-thumb.webp)