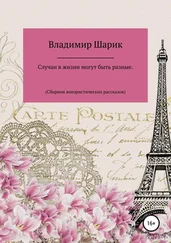— Котик! — говорила.
— Нет, нет!.. — говорила.
— Да, — говорила. — Да, Котик, да!
— Мой. Мой. Мой! — говорила; что в другие времена было глупо и стыдно, но она выражала необычный тот факт, что считала его на сегодня своим, а известно, что женщине так приятнее думать — нет, при этом как будто его узнавала, будто утверждала в столь близком соседстве, будто себя убеждала, что именно он.
— Это меня, — неожиданно сказал Николай, плюнув так много и так далеко, словно слюна фонтаном пошла через рот.
— Как? — спросил он, до крайности пораженный. — Тебя?
— Да, — сказал Николай. — Это точно, меня. Так она меня при этом звала — Николай, то есть Котик, но только при этом. Всегда звала, а теперь перестала.
Он стал на месте, с удивлением глядя Николаю в глаза.
— Хорошая баба? — спросил Николай, в момент пролизнув языком и опять тут же пряча его за губой.
— Да как сказать? — не сразу откликнулся он, все еще пораженный, и слегка затруднился, стараясь быть точным. — Я ведь столько их знал… Если честно, то я не могу так сказать. Но, конечно, все-таки неплохая. Да, — повторил он. — Неплохая, но странная.
— Хорошая баба! — упрямо сказал Николай. — Только стерва. А и ты тоже гад, вредный ты человек.
— Да чем же вредный? — удивился он снова. — Что я вредного сделал?
— А зачем обнимал? Она бы пробегалась да и дальше не стала, — сказал Николай с убеждением.
— Нет, ей было уже никуда не уйти. Если б я не помог, ей бы самой стало хуже. Как только мы в комнату вместе зашли — это было сразу окончательно все.
— А зачем тогда ехал? Ведь она не хотела, — сказал Николай, набирая все больше из себя убеждения.
— Не хотела, не села бы, — ответил он просто.
— И не села бы, сам ведь ее обнимал. Ясно, ей тебя было не выдержать, она тогда и села.
— Да ведь этого только от меня и ждала, то есть чтоб я обнимал и слегка уговаривал.
— А зачем познакомился? Зачем ты ей себя показал? Вон ты какой, видный из себя, кормленый, вредный ты для женщины человек, — сказал Николай, напирая на него словами.
— Да ведь и другие есть такие же, еще получше, чем я, — возразил он с*улыбкой, как будто дитяти.
— И те тоже вредные, все вы вредные, а особенно ты, — сказал Николай серьезно, кинув на него ярким глазом, как фарой. — Надо тебя уничтожить для пользы, да я не могу.
— Брось ты, — сказал он, смеясь в полный голос, радостно смеясь, в каком-то сильном удивлении на себя, в тайной дрожи. — Да какой же я вредный? От меня только польза!
— Да, надо бы тебя уничтожить, только я не могу, — повторил Николай, сунув руки в карман.
И снова он засмеялся, как бы довольный собой, как бы довольный словами Николая к нему.
— Да, — сказал Николай очень твердо и быстро. — Я тебя уж порежу немного, ты меня извини.
Тут мгновенно он понял, почему он смеялся. Тут возникла улица, окружив их собой. На улице шли пешеходы, как и в тот раз, при драке, и как в тот раз, никто не подумал бы страшное, потому что ведь тут не какой-то пустырь. В то же время прохожих в соседстве не шло, как бывает — они удалились вперед, они шли, нагоняя, но еще далеко, основная масса двигалась по той стороне; как и бывает это в очень людных местах, вокруг него с Николаем была небольшая, временная пустота, и в этой пустоте можно было временно, без помех, сделать все, что хотел, на что в кармане оказывался подвернувшийся нож. А после нахлынут и заполнят пространство, сделают шумное и нестрашное место, только времени может оказаться довольно, главное вовремя сделать решающий взмах, вроде мячика в опыте с жидким азотом: киньте мячик, голубенький, с силой об пол; кинули? что? — только весело прыгнул; опустите его ненадолго в азот, в страшные минусы его опустите, после оттайте немного и бросьте: снова подпрыгнет, голубенький, только пониже; но если кинуть немедленно, достав из сосуда, — то и все, то расколется сразу на хрупкие части, из которых уже не составить опять, — то есть все получается в точное время, то есть время работает вместе с ножом, вместе с морозом, работает время, а точнее, момент;и значит, так же, как нож, надо его отвернуть от себя, надо всеми руками, всем собой надо вытолкнуть себя из момента.
И эта улица, в которой ртутные только что зажгли фонари, и они разгорались с натугой, не сразу, проходя на вылетах, высоко, все цвета, от лилового, тусклого, до своего основного, зеленящего, яркого, мертвого, все в разных стадиях своего разгорания; и мотоцикл инспектора, стоящий без хозяина, у которого тем не менее замедляли почтительно личный бег, — такси же при этом пролетали легко; магазин готового платья напротив с темно-серым угрожающим названием «Максим»; недалекий парадничек, что они миновали, где сейчас тепло, несмотря на погоду, куда забрались три юнца к батарее и слушают, слушают свой карманный транзистор, а он исправно выдает, что им надо, потому как умеют извлечь из него, из каждой детали его извлекают и все присвистывают сами, все притопывают на его эти звуки, иногда выговаривают непонятное слово, иногда посмеются, приобнимут друг друга, наклоняясь к тому, у которого музыка, — и весело им, и не холодно, и свободно; и блестящие, словно смазные, трамвайные рельсы, и старухи с корявыми ногами под собой, через рельсы, без правил идущие, где захотят; и газета возле него с заголовком: «Человек обществу — общество человеку», которое очень могло оказаться вокруг, чтоб сумел человек ему слегка покричать, а чтобы общество ему, человеку, заслонило карман с наведенным ножом; и некий гражданин лет за тридцать, в модной шапке и лысый, то есть в лысине, явно выходящей за шапку, бегущий напротив за некрасивой девушкой, но молоденькой, а губы его были сложены так понимающе и так иронически, что по ним читалось: «Да, я знаю, что лысый. Ну и что? А и ты, погляди-ка, сама хороша» — все эти картины появились на улице вдруг, чтобы стать, возможно, последними, что увидят глаза.
Читать дальше
![Владимир Марамзин Смешнее, чем прежде. Рассказы и повести [Сборник юмористических и сатирических, но в основе бытописательских рассказов.] обложка книги](/books/39550/vladimir-maramzin-smeshnee-chem-prezhde-rasskazy-i-cover.webp)
![Владимир Марамзин - Блондин обеего цвета. Взаимная повесть. [Сюрреалистический рассказ]](/books/39549/vladimir-maramzin-blondin-obeego-cveta-vzaimnaya-p-thumb.webp)