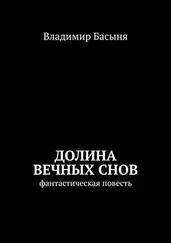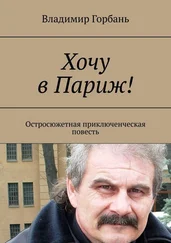Потом я все же прочел их (удивило название), и острая жалость к автору охватила меня. Нет, он не прав в отношении женщины, он не разбивал мое сердце, сердце «бабника прохожей эротической музы» (цитата из него — но цитата, в сущности, верная), я сам расстался с ней и был чуть не рад обстоятельствам, пристроившим ее и снявшим мою заботу (для меня это, кроме всего, означало возможность перестать зарабатывать-куда уж лучше, столько сил освободилось для живописи). Не скрою, было время, я проливал нефигуральные слезы — что поделать, привык! да и любил ведь когда-то, как мало кому повезло любить в жизни. Единственное, что привело меня тогда в недоумение и что в самом деле показалось обидным: эта странность замены! Никогда раньше я не смог бы представить себя замещенным этим существом в голубом костюме и в тусклых, немолодых волосах, закрывающих уши — фирменный признак их известного ордена, спаянного воедино «задним чувством» (как он выражается). Но это еще ничего, хуже другое: подумать только — моя жена вышла замуж за партийного члена!
Вот уж поистине, как мало мы их знаем, держа за собой… Сама же она, нервная и болезненная, занятая лишь своей персоной, непрерывно изображающая Лолиту («эдакую Лолиточку», как сама признавалась) — вряд ли это удачно к тридцати-то шести годам… Какую-то роль сыграли несогласия «во время нежной постели» (опять цитата, но ведь хорошо же сказано!) — то есть во время тех взаимно сложных действий, какие св. Франциск Сальский считал «долгом, уклоняться от которого можно лишь по взаимному соглашению» — прекрасна лексика святых, не говоря уже о смысле! Правда, теперь, к сожалению, знаю, почему она так упорно и односторонне уклонялась: редкая женщина выдержит год (а тем более дольше) непрестанную двойную атаку… но вообще, признаюсь честно, это единственное, что мог бы ей вполне простить, и сам ведь грешен… нас легко оторвать и бросить, но забыть нас не удается… это песня, всего лишь песня… прощай, моя любимая, больше не свидимся… а талантлива была очень, но, оторванная с детства от всех основ… однако теперь, когда ее нет, не испытываю к ней ничего, кроме безграничной нежности.
А роман о Долли Гейз действительно появился в нашей истории куда как некстати — ну что бы великому американскому россиянину написать его на десяток лет позже! Ибо романы никогда никого ничему не научивают, зато сообщают аналогиям отвратительную догадку: будто мы живем по заранее уготованной прописи, да к тому ж то и дело оскользаем с нее, словно осваивая начальное образование; получается сплошное безобразие клякс и потеков, ни одной человеческой фигуры… Нет, это совершенно точно: наша история всего лишь карикатура лолито-гумбертовской драмы. Даже убийство театрального деятеля является здесь — и тоже редуцированное до пары затрещин, повергнувших, правда, нашего героя в состояние непрерывного страха, от которого он поседел в один год настолько, что уже перестал быть объявленным в его названии блондином (название я сохраню, тем не менее). Серьезная разница лишь в ребенке; ребенка я более всего и любил, за него по-настоящему страдал — но что мне было делать тогда? и потом? и что мне делать сейчас? возможно, я даже не отклоню его сумасшедшее предложение: на что мы только ни идем ради того, что назовем столь великолепно искусством… Все остальное более чем смехотворно. Ведь до чего у нас дошло — он предложил мне две тысячи отступного безумной телеграммой (кажется, даже помню: «унять пошатнувшееся творчество зпт уход любимой женщины поддержки зпт отчасти виноват но пожмем руку счастья…»). Надо бы обидеться, да? Швырнуть перевод ему в морду? Удивляйтесь, разводите руками, но я аккуратно превратил эту подлую бумажку с помощью почты в полновесные рыжие десятки, жалея лишь об одном: а почему только две? не четыре? пять? семь? Да, я принял эти, в сущности, не слишком большие рубли у человека, которого хорошо окупает государство, и это дало мне возможность написать две картины что с великим трудом миновали границу и висят сейчас у Гугенхайма; картины, надо сказать, из моих лучших.
Несколько комментариев для тех, кто живет по ту сторону занавеса — то есть в зрительном зале нашего замечательно железного мирового театра, как сказал один не лишенный способностей писатель [2] Приходится признаться, что это мое выражение. В.М.
, в котором я особенно ценю острый юмор, у других любя его мало: у него есть новая система юмора, и последний являет себя инструментом познания, где познающий субъект включен в познаваемое целое, у большинства же юмор служит лишь для того, чтобы автору поставить себя над проблемой. Впрочем, и этот писатель, в конце концов, барахло, и он касается лишь частностей, и он закопан по колени в наши общие экскременты (да еще, говорят, запил горькую), и вообще только живопись может объяснить этот мир… но если б когда-нибудь я озаботился изданием этой грустной истории, я просил бы именно его, никого другого, привести ее к правилам современной журналистики.
Читать дальше
![Владимир Марамзин Блондин обеего цвета. Взаимная повесть. [Сюрреалистический рассказ] обложка книги](/books/39549/vladimir-maramzin-blondin-obeego-cveta-vzaimnaya-p-cover.webp)
![Владимир Марамзин - Смешнее, чем прежде. Рассказы и повести [Сборник юмористических и сатирических, но в основе бытописательских рассказов.]](/books/39550/vladimir-maramzin-smeshnee-chem-prezhde-rasskazy-i-thumb.webp)





![Владимир Владко - Чудесный генератор [Научно-фантастическая повесть]](/books/399153/vladimir-vladko-chudesnyj-generator-nauchno-thumb.webp)